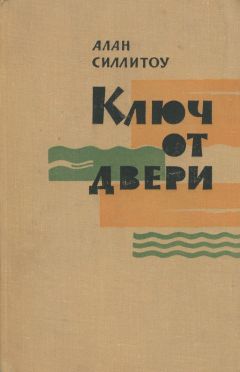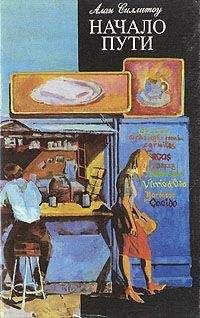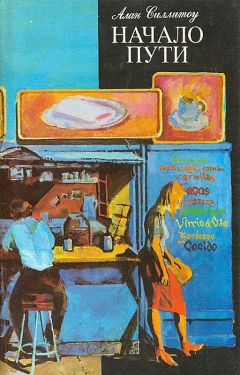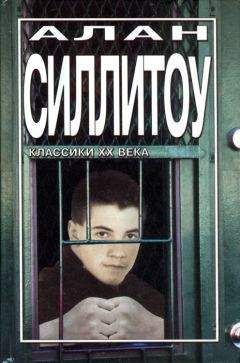— А где же все остальное? — спросил Оджесон.
— Разбросано по горе, — сказал Бейкер. — Мы изойдем кровавым потом, отыскивая каждый кусок.
Брайн отнесся к этому безразлично. «Что же делать, что же делать, раз попал в эту дыру, прямо в пекло, прямо в пекло мчать верхом на кенгуру».
— Ты прав: мало-мальски крупные куски могут валяться за много миль отсюда, — сказал Оджесон Бейкеру.
Они разделились и зашагали все четверо в разные стороны, словно по стрелкам указательного столба, договорившись сойтись по свистку.
Брайн очутился один и был рад этому. Он двинулся прочь от этого места с чувством облегчения, словно гуляя в тихий, погожий день. Пейзаж изменился, и хотя джунгли были все еще сырые и труднопроходимые, но то, что он не видел других, не слышал их голосов, его успокаивало. Джунгли сделались вдруг не такими чужими, он чувствовал, что для него они теперь стали как бы ручными и он даже начинает понимать, как они безобидны и, пожалуй, необходимы. Пышная листва плыла у него над головой. Земля под ногами остро пахла прелью, но этот запах больше уже не грозил лихорадкой, он был все равно что свежий воздух при таком безветрии, и Брайну уже не хотелось вглядываться сквозь высокие деревья, чтобы увидеть крошечный клочок неба. Со скалы тихо капала вода, но русла ручья ему найти не удалось, и он пошел напрямик, меся ногами красную глину, которая прилипала к его ботинкам, совсем как в детстве, когда он нарочно шлепал по лужам в высоких сапогах.
Наскоро выкурив сигарету, он стал продираться вперед, ныряя под ветки или перелезая через них, поднимаясь с уступа на уступ, а когда выбрался на ровное место, увидел, что кто-то смотрит на него, раздвинув ветки. Короткие черные волосы, белое лицо, изможденное, но умное, спокойное и мягкое и вдруг неизвестно почему ставшее злобным. Брайн заметил еще, что на этом человеке зеленая рубашка, и, поспешно спустившись вниз по склону, хотел спрятаться за деревом. Но человек уже прыгнул, занеся нож.
Словно граната разорвалась у Брайна внутри, и по телу разлился болезненный страх, но и в этом тумане он почувствовал, что стаскивает с себя вещевой мешок и дико кричит, надеясь, что другие его услышат, кричит долго, высоким голосом и готов кричать без конца, но его крик терялся среди кустов и деревьев. Мешок покатился вниз, а ведь когда он его снимал, то думал, как бы его не упустить; но только теперь, почувствовав, что и винтовка от него ускользает, он понял, как разумна была эта мысль.
Он сполз вниз, весь переполненный страхом и отчаянием. И все же мысли его метались, он в глубине души ждал возможности что-то предпринять и не хотел искать спасения в бегстве от смертоносного ножа. Дерево, земля, кусты и запахи джунглей, воспоминания о тщетных поисках самолета — все смешалось в его сознании. Человек зарычал («Этот болван думает, что я хочу на него напасть. Почему?»), и в то мгновение, когда нож оставался занесенным, здесь, в тишине леса, Брайн с удивлением успел заметить столько подробностей — молниеносно, звериным чутьем он чувствовал все, словно в надвигающемся кошмаре.
Клинок ножа был гнутый и ржавый, наверно, долго мокнул под дождем в джунглях, но острие у него серое — значит, он недавно наточен. «Мне крышка, — подумал Брайн, и эта короткая мысль исходила из той части его существа, которая была враждебна ему самому, — он меня убьет». Он крикнул, объятый страхом, поняв вдруг чувства этого человека, который тяжело дышал и рычал, готовясь нанести удар. И его руки метнулись вперед, повинуясь инстинкту самосохранения.
Оба подпрыгнули разом; руки Брайна зловещим и точным движением протянулись к ножу — старый прием самозащиты без оружия, которому его много лет назад научил на картонажной фабрике Артур Эдисон. Он захватил запястье и локоть жесткой, как проволока, руки, державшей нож, и вывернул ее, рванув изо всех сил в сторону и назад. Прием удался, и он сам пришел в ужас от этого, тело его покрылось испариной, и со своей нерешительностью ему пришлось бороться не менее напряженно, чем с действительной опасностью.
Он глядел на лезвие ножа, отведенное далеко назад, и ему захотелось смеяться, потому что он сумел это сделать, но он подавил в себе эту слабость, боясь обессилеть от смеха. Противник зарычал и ударил его ногой, разбив ему лодыжку, потом рванул схваченную руку и свободной рукой нанес удар, но Брайн не обращал внимания на боль, а его противник даже не успел сообразить, что может перехватить нож другой рукой. Чем сильнее Брайн, скрежеща зубами, сжимал ему руку, тем больше тот слабел, и вскоре было уже нетрудно заставить его бросить нож. Это было глупо, ведь Брайн мог сломать ему руку, которую сжимал изо всех сил, напрягая мускулы, окрепшие за годы труда, и он знал, что долго этого никому не выдержать. Брайну хотелось засмеяться и выпустить руку, сказать этому человеку, чтоб он перестал, не был таким идиотом. Нож выскользнул и исчез в зелени листвы. Брайн отшвырнул незнакомца быстрым, как молния, ударом кулака и ноги. Теперь его снова охватил страх, он тяжело дышал, споткнулся о свой вещевой мешок и винтовку, а незнакомец вылез из кустов и шарил по земле.
Брайн поднял винтовку: «Этот болван может снова на меня наброситься, но тогда я вышибу ему мозги, да так, что они на деревьях повиснут. И чего он на меня взъелся?» Брайн достал патрон, громко щелкнул затвором и сам понял значение этого звука, только когда звонкое эхо замерло вдали. Партизан стоял теперь, подняв руки, в десятке шагов от Брайна, настолько близко, что Брайн видел, как подергивается левый уголок рта на его застывшем и покорном лице. Зачем он поднял руки? Почему не побежал? Он поставил затвор на предохранитель, чтобы не спустить случайно курок. Теперь Оджесон не сможет его обвинить в том, что он не принял меры предосторожности. Молчание становилось невыносимым, он шевельнулся, хрустнул сучок.
— Беги, — сказал он, боясь, что этот человек сумасшедший и может снова на него броситься, — катись к черту. — И он пригрозил ему винтовкой, если тот не послушается.
Какой-то внутренний голос твердил Брайну, что это враг, но Брайн отбросил эту мысль, считая, что так будет лучше и для этого человека, и для него самого. Может быть, он не понимает по-английски?
— Беги, ну...
Человек вдруг оправился от замешательства, с лица его исчезла равнодушная покорность пленника, он повернулся, прыгнул и скрылся в джунглях. Брайн стоял на месте, словно оледенев, потом рука у него дрогнула, и он, поставив ружье между ног, прислонился спиной к дереву, чтобы закурить сигарету. Над головой гудел самолет, но Брайн был так потрясен, что даже не взглянул на него, уставившись в землю.
Войны в Малайе и всего, что он о ней слышал, словно не существовало в этих темных и влажных джунглях, и он подумал, что у этого человека, наверно, есть где-нибудь неподалеку хижина и садик и, приняв его, Брайна, за одного из тех, кто разграбил ее на прошлой неделе, он теперь ждал в засаде его возвращения.
Ноги у Брайна стали как резиновые, и он, ослабев от смятения и угрозы смерти («он хотел меня убить, ну конечно, это по его роже видно было»), пошел обратно, туда, где расстался с остальными. Может быть, этот человек — бандит; Брайн отогнал эту мысль, но она вернулась снова и неотвязно его преследовала, как будто уверенность, что это так, каким-то образом могла укрепить его рассудок, неведомым путем спасти его душу. Но, как бы там ни было, он не бандит, а коммунист. А это большая разница — уж настолько-то Брайн мог разобраться. И перед ним возникла картина: хмурый осенний день несколько лет назад, еще во время войны, обеденный час около фабричной столовой — картина эта составилась из воспоминаний о многих таких обеденных часах, — оратор коммунист говорил о Советском Союзе, истекающем кровью в упорной борьбе против немецких нацистов и итальянских фашистов, о том, что пора Англии и Америке открыть второй фронт, и тут из толпы раздался выкрик:
— А ты почему не в армии, приятель? Но кто-то перекрыл крикуна:
— А ты сам почему не в армии?
И взрыв хохота не дал ему больше говорить.
Брайн прислонился к дереву, не в силах удержаться от смеха; яростная издевка вырвалась наружу: «А я его отпустил! Оджесон и все вы, сволочи, я отпустил его, потому что он — товарищ! Я не убил его, потому что он — человек». И вдруг уверенность, что это был партизан, словно удар кулака, свалила его на землю, и он корчился и смеялся, вне себя от радости, ничего не видя вокруг, хохотал, потому что человек остался жив, кто бы он там ни был. «А все-таки он враг, надо было вскинуть винтовку и пригвоздить его к земле пулей, как он пригвоздил бы меня своим ножом, будь у него хоть малейшая возможность. — Он закурил. — Пожалуй, лучше вернуться и поглядеть, не нашли ли они там самолет. Но теперь, если какой-нибудь умник скажет мне: «А ты почему не в армии?» — я ему сумею так ответить, что он только рот разинет». Он шел тихо, боясь, что рядом окажутся другие партизаны и на этот раз ему повезет меньше. Он похолодел от страха и вдруг узнал кожух мотора, возле которого расстался с остальными, — алюминиевый ящик, заключавший в себе сложный самолетный мотор, и вид этого ящика живо напомнил ему щелканье предохранителя, прозвучавшее несколько минут назад. Он начал подниматься вверх, мимо зловещих остатков самолета, туда, где надеялся найти своих. И вдруг неожиданно для самого себя он начал стрелять по верхушкам деревьев, в небо, выстрелил пять или шесть раз подряд по тем призракам, которые вызвал в его солдатском воображении образ коммуниста. Он расстрелял всю обойму, теперь уже тщательнее прицеливаясь в призрачные тени меж деревьев, и каждая пуля вонзалась где-то далеко в землю или в ствол, а оглушительный грохот тревожил и разгонял тишину в этих горах. «Что ты делал на войне, папа?» — «Я поймал коммуниста и отпустил его». — «Почему же ты это сделал?»— «Потому что он был человек». И не все будут смотреть на меня как на конченого. «Брайн, мой мальчик, я горжусь тобой», — сказал бы его старик.