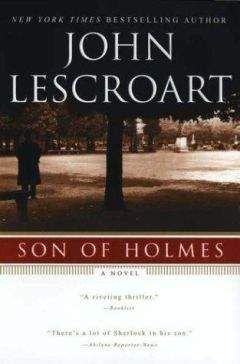эти домыслы.)
На самом деле Дега пользовался любым случаем (если не было натуры, просто все выдумывал), чтобы снова и снова изучать человеческое тело. Как правило, женское, поскольку был гетеросексуален и женщины удивляли его больше, чем мужчины, а удивление и дает импульс рисовальщику его типа. И всегда находились недовольные его творчеством: мол, что это за тела – деформированные, уродливые, непристойно перекрученные. Утверждали даже, будто он ненавидел тех, кого рисовал!
Непонимание возникало оттого, что он отвергал условности физической красоты как произвольно навязанные искусством или литературой. Для многих зрителей чем больше обнажено тело, тем больше условностей должно быть соблюдено, тем больше тело должно соответствовать норме, извращенной или идеализированной. Нагота должна носить полковую форму! Дега, напротив, вздрагивая от изумления, стремился так передать особенности каждого тела, которое припоминал или наблюдал, чтобы оно удивляло, казалось невероятным, чтобы его уникальность стала почти осязаемой.
Лучшие работы Дега действительно потрясают, поскольку начинаются и заканчиваются в пределах обыденного (того, что Венди Лессер называет «каждодневностью» жизни), но сама эта обыденность всегда содержит нечто непредсказуемое и сильнодействующее. Сила воздействия – в памяти о боли или желании.
Вот статуэтка массажистки, которая разминает пальцами ногу лежащей на кушетке женщины: эту работу я воспринимаю отчасти как признание. Только признаётся Дега не в том, что у него портится зрение, и не в том, что он подавляет желание пощупать женщину, но в своей художественной фантазии, в чувстве облегчения, которое несет с собой прикосновение – даже если это всего лишь прикосновение угольного карандаша к бумаге. Что оно облегчает? «Тоску и тысячу природных мук, / Наследье плоти…» [89]
Сколько раз ему приходилось подклеивать к своим рисункам дополнительные полосы бумаги, чтобы увеличить площадь: он слишком увлекался, несмотря на все свое мастерство. Образ уводил его дальше, чем он планировал, на самый край, а там, на краю, мгновенно рождался следующий. Все его поздние женские образы кажутся незаконченными, брошенными. И так же как в случае с бронзовыми статуэтками лошадей, можно объяснить, почему это происходило: в определенный момент художник исчезал и в свои права вступала модель. После этого ему уже ничего не было нужно, и он прекращал работу.
В этот момент скрытое от глаз становилось явленным на бумаге в той же мере, что и видимое. Женщина, увиденная со спины, вытирает ногу, поставив ее на край ванны. В то же время невидимая часть ее тела тоже присутствует, узнанная, распознанная рисунком.
В поздних работах Дега раз за разом обводит, усиливает контуры тела, рук, ног. Причина проста: на краю (у последней черты) все, что находится на другой, невидимой стороне, взывает к художнику, желая быть узнанным, и он ищет линию… до тех пор, пока не является невидимое.
Глядя на женщину, которая, стоя на одной ноге, вытирает другую, мы счастливы оттого, что́ было узнано и допущено в изображение. Мы чувствуем, как сущее вспоминает собственное Творение, до того, как возникла тоска и смертельная усталость, до того, как был организован первый бордель и первый спа-салон, до нарциссического одиночества, – вспоминает тот миг, когда созвездиям дали имена. Да, это то, что мы чувствуем, глядя на неустойчивую позу женщины.
* * *
Так что же он оставил, если все это – незаконченные шедевры?
* * *
Разве не мечтаем мы о том, чтобы нас узнавали по спине, ногам, ягодицам, плечам, локтям, волосам? Речь не о психологическом узнавании, не о социальном признании и не о славе, а о том, чтобы нас узнали в нашей наготе. Как знает своего ребенка мать.
Попробую выразить это иначе. Дега оставил после себя нечто очень странное. Свое имя. Свое имя, которое, благодаря его графике, теперь можно использовать как глагол. «Дега меня! Узнай меня точно так же. Узнай меня, Боже! Дега меня!»
* * *
Что таится в складках? В складках классических пачек балетных танцовщиц и в складках нарисованных и написанных Дега тел? Этот вопрос возник у меня после просмотра выставки «Дега и балет: запечатленное движение» в Королевской академии в Лондоне. В роскошном каталоге приводится цитата из Бодлера: «Танец – это поэзия, сотканная руками и ногами, это прекрасная и грозная материя, одушевленная, облагороженная движением». [90]
В композициях Дега, на которых изображено несколько танцовщиц, их шаги, позы и жесты часто создают почти геометрические фигуры, напоминающие строго выписанные буквы алфавита, но при этом тела и головы не подчиняются этой геометрии и линии остаются волнистыми, непохожими друг на друга. «Танец – это поэзия, сотканная руками и ногами…»
Дега был одержим искусством классического балета, поскольку это искусство говорило ему нечто важное о самом существовании человека. Он был не из тех балетоманов, которые ищут в театре убежища от этого мира. Танец давал ему зрелище, в котором он мог узнать, после долгих поисков, некие человеческие тайны. Лондонская выставка наглядно демонстрирует корреляцию между оригинальными произведениями Дега и развитием фотографии или изобретением кинематографа. Эти технологические новации позволяли лучше понять, как движутся и действуют тела – и человека, и животных: как скачет лошадь, как летает птица и т. д.
Нет сомнений в том, что Дега интересовался новейшими техническими достижениями и использовал их, но мне кажется, что его главный «пунктик» ближе к одержимости Микеланджело или Мантеньи. Всех троих завораживала способность человека к мученичеству. И все трое склонялись к тому, что это и делает человека человеком. Больше всего Дега восхищало в человеке умение терпеть, стойко переносить испытания.
Давайте приглядимся. Из рисунка в рисунок, из картины в картину мы видим одну и ту же характерную особенность: контуры танцующих фигур то тут, то там заметно темнеют, смешиваются и пропадают в общей неразборчивой тени. Темное пятно порой возникает в районе локтя, пятки, подмышки, икроножной мышцы, шеи – здесь образ вдруг темнеет, и это темнота совсем иной природы, чем любая падающая на тело тень.
Прежде всего такие затемненные участки – следствие работы художника, который без конца что-то исправлял, менял и снова исправлял, уточняя положение руки, уха или иной части тела. Его карандаш или мелок отмечает, передвигает, потом снова, еще увереннее, отмечает приближающийся или отступающий край непрерывно движущегося тела. Скорость, несомненно, важна. Однако эти «затемнения» говорят также о темноте складок и провалов, то есть сами по себе выполняют экспрессивную функцию. В чем она состоит?
Приглядимся получше. Балерина управляет движениями всего своего неделимого тела, но самые выразительные ее движения – это движения рук и ног, двух пар конечностей, принадлежащих одному торсу. В обычной жизни эти две пары и торс