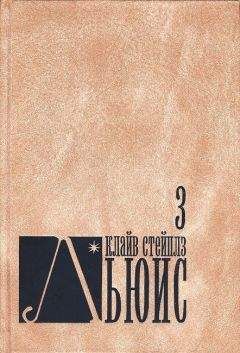положение в
верном свете, мы никогда не должны забывать, насколько иным оно кажется
ему.
Мы знаем, что нам удалось направить его в другую сторону, увести
от
Врага. Но пусть он думает, что причины такого изменения вполне обыденны
и
легко и просто устранимы. Он ни в коем случае не должен заподозрить, что
сейчас он медленно удаляется от солнца в холод и мрак совершенно
безбрежной
пустоты.
Именно поэтому я почти обрадовался, услыхав, что он все еще
молится,
ходит в церковь и приступает к таинству. Я знаю, это опасно для нас, но
было
бы еще хуже, если бы он понял, как далек от высокого накала первой
поры.
Пока он внешне сохраняет привычки христианина, можно поддерживать
его в
уверенности, что у него просто появилось несколько новых друзей и
новых
удовольствий, но его духовное состояние в основном такое же, как и
шесть
недель назад. Пока он так думает, нам даже не надо бороться с
осознанным
раскаянием во вполне определенном грехе. Будем только ослаблять
смутное и
тревожное чувство, что он не совсем правильно вел себя в последнее время.
С этой смутной тревогой обращайся очень осторожно. Если
она
усиливается, она может пробудить человека и испортить всю нашу
работу. С
другой стороны, если ты заглушишь эту тревогу полностью, чего, вероятнее
всего, Враг тебе сделать не позволит, мы упустим возможность обернуть
ее
себе па пользу. Если же позволить ей развиваться, но не до таких
пределов,
когда она становится неотступной, переходя в подлинное покаяние, она
приобретет одно неоценимое достоинство. Пациенту будет все труднее думать
о
Враге. Все люди во все времена в какой-то степени испытывали эту неохоту.
Но
если мысль о Нем поднимает
в человеке целый ряд полуосознанных грехов, эта неохота
усиливается.
Тогда он возненавидит всякую свою мысль, напоминающую о Враге, как
близкому
к банкротству человеку ненавистен один вид банковской книжки. В
этом
состоянии твой пациент проникнется неприязнью к своим
религиозным
обязанностям. Прежде чем приступить к ним, он будет думать о них
настолько
мало, насколько это еще допускает чувство приличия, и по их окончании
он
будет забывать о них как можно быстрее. Несколько недель назад
тебе
приходилось искушать его фантазиями и невнимательностью во время
молитвы.
Теперь он примет тебя с распростертыми объятиями и почти начнет
упрашивать,
чтобы ты отвлек его и опустошил его сердце. Он сам захочет, чтобы
его
молитвы не были сердечными, ибо ничто не испугает его больше, чем
непосредственное присутствие Врага. Он станет стремиться к тому, чтобы
спящая совесть лгала.
Когда это состояние в нем укрепится, ты мало-помалу освободишься
от
утомительной обязанности использовать удовольствия в качестве
искушений.
Когда тревога и нежелание разобраться в сути этой тревоги уведут его
от
подлинной радости; когда привычка лишит приятности суетливые
удовольствия, а
возбужденность чувств накрепко привяжет к ним (к счастью, именно
так
привычка действует на удовольствие), ты увидишь, что его блуждающее
внимание
можно привлечь чем угодно. Тебе даже не нужно будет использовать
хорошую
книгу, которую он действительно любит, чтобы удержать его от молитв, работы
и сна; вполне достаточно колонки объявлений из вечерней газеты. Ты
заставишь
его терять время не только в интересных для него разговорах с приятными
ему
людьми, но и в разговорах с теми, кто ему безразличен, на совершенно
скучные
темы. Он у тебя временами вообще ничего не будет делать. Ты его
продержишь
до
поздней ночи не в шумной компании, а в холодной комнате, у
потухшего
камина. Всю его здоровую внешнюю активность можно подавить, а взамен
дать
ничто, чтобы под конец он мог сказать, как сказал один мой пациент, прибыв
сюда: "Теперь я вижу, что большую часть своей жизни я не делал ни того, что
я должен
был делать, ни того, что мне хотелось". А христиане говорят, что
Враг
-- это Тот, без Кого ничто не обладает силой. Нет, НИЧТО очень
сильно,
достаточно сильно, чтобы украсть лучшие годы человека, отдать их
не
услаждающим грехам, а унылому заблуждению бессодержательной мысли.
Ничто
отдает эти годы на утоление любопытства, столь слабого, что человек сам
его
едва осознает. Ничто отдает их постукиванию пальцами,
притоптыванию
каблуками, насвистыванию опротивевших мелодий. Ничто отдает их
длинным,
туманным лабиринтам мечтаний, лишенных даже страсти или гордости, которые
могли бы украсить их, причем,
окунувшись однажды в эти мечтания, слабый человек уже не
может
стряхнуть их с себя.
Ты скажешь, что все это мелкие грешки. Тебе, конечно, как и
любому
молодому искусителю, больше всего хотелось бы, чтобы ты мог
доложить о
какой-нибудь картинной подлости. Но помни, самое важное -- в какой
степени
ты удалил подшефного от Врага. Неважно, сколь малы грехи, если
их
совокупность оттесняет
человека от Света и погружает в ничто. Убийство ничуть не хуже
карт,
если карты дают нужный эффект. Поистине, самая верная дорога в ад -- та, по
которой спускаются постепенно, дорога пологая, мягкая, без
внезапных
поворотов, без указательных столбов.
Твой любящий дядя Баламут.
ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ
Дорогой Гнусик!
Мне кажется, в последний раз ты извел слишком много бумаги на
изложение
совершенно простой истории. Все дело в том, что ты дал своему
подопечному
выскользнуть из рук. Положение довольно серьезное, и я отнюдь не
намерен
защищать тебя от последствий твоей небрежности. Раскаяние и новый
приток
того, что противник называет "благодатью", да еще такой мощный, как
ты
описываешь,-- крупный провал. Это равносильно вторичному
обращению,
возможно, на более высоком уровне, чем первое.
Тебе следовало бы знать, что удушливое облако, мешавшее твоим атакам
на
пациента, когда он шел со старой мельницы, давно известно. Это
самое
варварское оружие Врага, оно обычно появляется, когда Он
непосредственно
рядом с пациентом при особых обстоятельствах, классификация которых у
нас
еще полностью не разработана. Некоторые люди всегда окружены таким
облаком и
потому недосягаемы для нас.
А теперь о твоих ошибках. Судя по твоему описанию, ты,
вопервых,
позволил пациенту прочесть книгу лишь потому, что она действительно
ему
нравится, а не для того, чтобы ронять умные реплики у новых
друзей.
Во-вторых, ты позволил ему прогуляться на старую мельницу, выпить там
чаю,
пройтись по деревне, которая ему тоже нравится и побыть при этом
одному.
Другими словами, ты позволил ему получить два истинных удовольствия.
Неужели
ты настолько невежествен, что не увидел опасности? Основная
особенность
страдания и наслаждения в том, что они совершенно реальны и, пока
длятся,
дают человеку критерий реальности. Если бы ты попытался погубить
своего
подопечного методом романтизма, стараясь сделать из него Чайльд Гарольда
или
Вертера, погруженного в жалость к самому себе из-за выдуманных бед, тебе
нужно было бы предохранять его от всякого подлинного страдания. Пять
минут
реальной зубной боли разоблачат все романтические печали, покажут, какая
это
все ерунда, и сорвут маску со всей твоей стратегии. Ты пробовал погубить
своего пациента земными соблазнами, подсовывая ему тщеславие, суету,
иронию, дорогие и скучные удовольствия. Как же ты не разобрался в том, что
подлинного удовольствия ни в коем случае нельзя допустить? Разве ты не
мог
предвидеть, что такое удовольствие по контрасту просто убьет всю ту
мишуру,
к которой ты его с таким тщанием приучал? Что то удовольствие, которое
дали
ему прогулка и книга, особенно опасно для нас? Что оно сорвет с его
души
кору, которой она твоими стараниями начала обрастать? Да ведь оно дало
ему
почувствовать, что он возвращается домой, вновь находит себя!
Отдаляя
подопечного от Врага, ты хотел отдалить его от себя самого и в
какой-то
степени преуспел. А теперь все насмарку.
Конечно, я знаю, и Враг не хочет, чтобы люди были привязаны к
самим
себе. Но это совершенно другое дело. Помни, что Он действительно любит