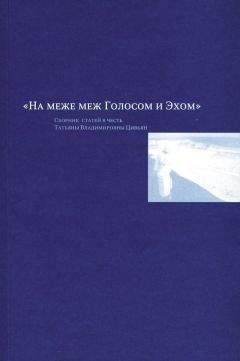Могу ль ступить на этот вот балкон,,
Чьи окна наподобие икон,
Где Ты касался этих колоннад,
Где Ты грустил и пел и в склад и в лад.
Здесь ты оставил свой священный след.
И здесь доныне царствует Поэт!
ПУШКИН:
Моя Свирель! Мой нежный птицепев!
Ты мой помощник в творческой работе,
И, повторяя строчки нараспев,
Остановись на этой самой ноте.
Входи, будь ласкова. И пусть приметят взоры
Дворца и леса зимние уборы.
Пусть заблестят под Солнышком глаза.
И пусть неутомимая слеза
Сбежит по древу мудрости на плаху,
Зажжёт костёр любви на зло вражде и страху.
И за бессмертье кубок выпьем мы,
Отрекшись от сумы и от тюрьмы!
Готов удостоверить подпись я.
Со мною ты и все мои друзья.
Пушкин, 24-30, 19. 02. 1994.
296
Но Свирель Южноуралья всё время что-то задерживает, сколько бы она ни мечтала
побывать в Михайловском.
Остаются только рядом – книги, альбомы, стихи и диалоги с Поэтом. Перед взором –
лишь фотографии Приюта, сияньем муз одетого: Тригорский парк, пруд, река Сороть, холмы,
туманная даль…
Да, вот о чём нельзя забыть. У Гейченко были помощники. Это были люди из разных
уголков страны нашей: учёные и люди рабочих профессий, участники войны и совсем молодые.
Кто-то пришёл из окрестных деревень. Но главное, что их объединяло, это любовь к
Пушкину. Многие знали поэмы и стихи Поэта наизусть. Каждый был готов к любой черновой и
самой тяжёлой работе. Эти люди были надёжной опорой директору Пушкиногорья во всех его
нелёгких трудах.
И благодарность им за их самоотверженность воссылается с Небес теперь и самим
Хранителем… Он ушёл из жизни в 1993 году. 90 лет отслужил Отечеству!
А Свирель, отдавая дань этому чудесному человеку, вовлекает Поэта в диалог, в котором
Сам Пушкин воздаёт должное Семёну Степановичу Гейченко.
Свирель:
О, Пушкин мой! Прийти к Тебе стремлюсь
Сквозь годы, сквозь пургу, сквозь разговоры,
Сквозь ангелов небесных хоры
К Тебе идёт твоя Свирелька-Русь!
Прошу Тебя, найдём тот уголок,
Где расцветает в роще незабудка.
И я уверена, найдётся та минутка,
Когда пройдёмся по твоим лесам,
По косогору. Пряно пахнут травы!
Упьёмся светом Пушкинской дубравы
И Сороти родной, – не ради славы,
А ради встречи этой всё отдам!
Я в мыслях только прикасаюсь к тем полям,
Измятым, как Ты говорил, Твоей бродячей ленью,
К стогам и пажитям селян,
Живущим рядышком с Твоим селеньем.
Я взором лишь слежу за бегом вод,
Голубизной сравнимой лишь с глазами,
Которые всё знали наперёд
И ведали о всём, как Вы сказали Сами.
То Вас на «Вы», то Вас на «Ты» назвать хочу.
Как это получается, не знаю.
От «Вы», как водится, нередко я скучаю,
От «Ты», Вы знаете, нередко хохочу.
Шутник, забавник, маг, насмешник белозубый,
Судили, зная всё, Вы обо всём шутя.
Беспечное кудрявое дитя,
Для всех необходимый, нужный, любый,
Мудрец, шалун, ребёнок и Поэт,
Не знавший старости. Уже в расцвете лет
Прошедший воды, и огонь, и трубы.
Да, медных труб звучанье до сих пор
297
Смущает слух, волнует синий взор.
Но всё, чем дышит грудь
И всё, что шепчут губы,
Всё слышат и река, и плёс, и бор.
ПУШКИН:
Свирель моя, как звонок голос лета
В кудрявости берёзкиных ветвей!
Я вновь услышал прежний зов поэта.
Прошу тебя, вина строки налей!
Упьёмся накануне Дня Рожденья
Родного Пушкина, повесы прежних дней.
Припомним о нежданных совпаденьях
В его судьбе, о странных сновиденьях
И восстановим юности секрет.
Я стих любил, весёлый, звонкий, смелый.
Стих белозубый, как и сам Поэт,
Скакал по Свету много долгих лет,
Как наш Пегас, как луч, прозрачно-белый.
Стих веселился и грустил и плакал,
И вёл в дубравы и водил в поход,
И славил наш славянский славный род,
И выводил друзей моих из мрака,
И создавал свой стиль и свой народ.
Я много делал. И не только мне величье
Воздало время. Мой помощник – Бог.
Я не бряцаю знаками отличья.
Их вид, скажу, претит до неприличья.
Мой символ бег, стрела, Свирель и рог.
Струна – мой знак на вечном лике Лиры.
Я эти струны вещие задел
И не прошу ни дачи, ни квартиры.
Я вечный странник вечности и Мира.
Поэзия – мой радостный надел.
Тебя возьму Свирель, мой милый вестник,
Посмотрим на развесистую ель,
Где Лель-проказник, Пушкинский ровесник
Вызванивает солнечную трель.
Здесь псковский соловей поёт, не прячась
В густых кустах семёновских хлопот.
Здесь Гейченко хранит мой славный род.
Вот это, я скажу тебе, мой друг, всем дачам дача.
О, эта дача Богом создана.
Она – в наследство нашему народу.
Она, восславив нежность и свободу,
Равна Семёну, Пушкину равна.
Да, Гейченко наш гений, мой спаситель.
Ему я верю, знаю и люблю.
298
Его я помнить правнукам велю.
Он ныне, как и я же, небожитель.
О, Гейченко Семён, позволь воспеть
Твой долгий труд и подвиг многотомный,
Твоих хлопот бессчётных груз огромный
И звонкой веры радостную медь.
Вдали от муз, в глуши, наследник пагод,
В тиши лесов, среди грибов и ягод
Мы укрепляли вещий наш союз.
Дай руку мне. Ты видишь, как светла
Поэта длань – она тебе навечно
Дана, как знак Поэтова родства,
Как знак любви, труда и мастерства.
И, несмотря на жизни быстротечность,
По-прежнему беспечна и жива!
Свирель:
О, этот гимн труду и благородству
Я в сердце, милый Пушкин, сберегу!
Душа болит – ушёл спаситель пагод,
Что жил в глуши, среди грибов и ягод.
Он юной жизни радостную влагу
Не отдавал ни злобе, ни врагу.
Оценим подвиг тот по первородству
Высоких Душ, что одолеют мрак.
Многое из того, что видел и чувствовал Семён Степанович в просторах Пушкиногорья,
осталось за пределами его рассуждений и рассказов.
Этим он делился только с самыми близкими людьми.
А причиной умалчивания было то же опасение, которое мешало многим космонавтам
откровенно признать, что полёты в Космос укрепили их веру в Бога, или заставили понять, что
Божественность Мира безусловна.
Однажды, после очередного урагана, который превратил в бурелом большую часть
старых сосен, Хранитель вышел на расчистку парка от бурелома. С ним на эту нелёгкую работу
вышли все сотрудники заповедника.
Кто-то углубился в чащу. Кто-то шёл поодаль. А Семён, остановившись около огромной
древней сосны, поверженной ураганом, обратил внимание на воронов, которые мелькали на фоне
очищающегося от туч небосвода, как чёрные молнии.
С удивлением он обнаружил, как странно и жутковато светились глаза птиц. Их лучи как
будто пронизывали тебя насквозь и вызывали дрожь. Семён невольно перекрестился и
перекрестил пространство заповедника..
И вдруг птицы пропали. Это было необыкновенно и неожиданно. После этого случая он
ещё раз убедился, что ущерб, наносимый заповеднику, не обходится без участия недоброй силы.
Он приобрёл икону Божьей Матери «Утоли моя печали» и хранил её в недоступном для
других месте, часто обращаясь к ней мысленно в самые трудные моменты жизни.
299
Однажды, – это было в начале 70-х годов, – Семён шёл по тропинке и увидел, что
навстречу ему идёт человек среднего, скорее даже – высокого роста. Он был в ярко-красной
рубашке под поясок. Тёмно-каштановые волосы золотились под жарким июньским Солнцем.
Приближаясь к незнакомцу, Хранитель заметил во всём облике его нечто очень близкое и
родное. И вот он уже не сомневался – навстречу ему шёл сам Пушкин.
Те же густые, но не чёрные, а скорее русые бакенбарды, походка упругая, быстрая,
спортивная.
Лицо озарилось белозубой улыбкой, на Солнце блеснули знаменитые пушкинские перлы.
А глаза, глаза! Они сияли, сверкали синими огнями, источая необычную магию доброты
и света.
Вся фигура Поэта была окутана сиянием. Семён заметил, что Поэт был подпоясан не
ремешком и не пояском, а обыкновенной довольно толстой верёвкой.
Гейченко не почувствовал ни удивления, ни испуга. Он готов был произнести
приветствие и только открыл рот, как видение исчезло. Как будто ничего и не было…
Он рассказал об этом случае только жене.
Она не удивилась и, в свою очередь, сказала ему, что однажды в усадьбе Тригорского на
аллее видела пару: мужчину и женщину в одеяниях 19-го века. И по силуэтам угадала, что это
был Пушкин и Анна Керн. Больше к этому разговору они не возвращались.
Но следующий случай, произошедший с директором Заповедника, ещё более укрепил в
нём чувство глубокой убеждённости, что вся жизнь его и деятельность в Святогорье находится