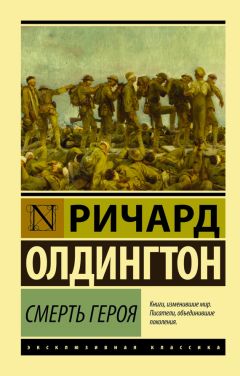Он отвез Фанни домой в такси, по дороге держал ее за руку и молча смотрел прямо перед собой. У дверей он поцеловал ее:
– Спокойной ночи, Фанни, родная моя. Огромное тебе спасибо, я так рад, что ты со мной поужинала.
– Ты разве не зайдешь?
– Не сегодня, милая. Ужасно хочу спать… понимаешь, я немного устал.
– Ах, так. Ну, спокойной ночи.
– Спокойной ночи, голуб…
Дверь захлопнулась, отсекая последний слог.
Он возвращался в Челси пешком. Уличные фонари светили еле-еле. Впервые в жизни он ясно увидел звезды над Пикадилли. Проходя по Кингз-роуд, услышат тревожные звуки труб – они возвещали воздушный налет. Дома лег в постель, погасил свет и лежал с открытыми глазами, настороженно прислушиваясь. Заговорили зенитные орудия, и тут он, к своему стыду, понял, что страх перед взрывами вернулся к нему, и, заслышав грохот бомбы, он всякий раз вздрагивал. А они падали все ближе, и одна с яростным треском разорвалась на соседней улице. Он вдруг заметил, что обливается по́том.
Элизабет не возвращалась домой до трех часов ночи. Они с Реджи укрылись в отеле «Пикадилли». Когда она наконец вернулась, Уинтерборн еще не спал, но не окликнул ее.
Отпуск кончился, и пять недель Уинтерборн, как полагается, проболтался на сборном пункте. Ему тошно было возвращаться к казарменному житью, и люди, которые теперь его окружали, были ему не но душе. Все они уже побывали в окопах, но здесь почему-то казались совсем другими, чем на фронте. Узы товарищества распались, каждый думал только о себе, недружелюбно косился на остальных, и все раболепно заискивали перед унтер-офицерами в надежде получить увольнительную в город. Кажется, они только об увольнительных и думали, только и мечтали что о девчонках да о кабаках. И без конца брюзжали. Порой кто-нибудь рассказывал случаи из фронтовой жизни, от которых волосы вставали дыбом, но Уинтерборн считал, что любой из этих ужасов вполне правдоподобен, хотя, конечно, рассказчики могут и приврать. В память ему врезался рассказ, верней, небольшой эпизод, слышанный от одного пехотного сержанта.
– И худо ж нам пришлось на Сомме, черт ее дери. Нагляделся я там, бывало такое – век не забудешь.
– А что? – спросил Уинтерборн.
– Да вот, ранило одного нашего офицера, и видим – бежит к нему немец с ручной гранатой. Подбежал, сдернул кольцо и сунул ее раненому под голову. А у офицера обе руки перебиты, и двинуться не может. Так он и лежал целых пять секунд – граната шипит у него под ухом, а он дожидается, чтоб она разнесла ему череп. Мы не успели к нему добежать. Того немца кто-то пристрелил, а потом наши подобрали раненого немецкого офицера и швырнули его живьем в горящий склад боеприпасов. И вопил же он, страшное дело!
Со сборного пункта его отправили в офицерскую школу, дав перед тем отпуск на два дня. Он все-таки уговорил Элизабет встретиться с Фанни, и в день его отъезда они позавтракали все вместе. Фанни с Элизабет проводили его на поезд и, выйдя с вокзала Ватерлоо, тут же разошлись в разные стороны.
Потянулись месяцы нудной муштры в нудном мрачном лагере. Посреди обучения он получил двухдневный отпуск, а потом его произвели в офицеры и снова отправили в отпуск, велев ждать приказа о новом назначении.
Увидев его в новой форме, и Элизабет и Фанни пришли в восторг от покроя и материала: теперь он точь-в-точь офицер, не хватает только знаков различия да портупеи. В новеньком офицерском обмундировании, с маленьким голубым шевроном на левом рукаве – знак принадлежности к экспедиционным войскам – он казался чуть ли не франтом. В обеих вновь вспыхнули самые нежные чувства, и весь месяц отпуска они усиленно его развлекали и ублажали. Фанни по-прежнему считала, что он несравненный любовник. Но только «в антрактах» он уже не болтал весело и оживленно, а сидел хмурый, молчаливый или пил и говорил все о той же надоевшей ужасной войне. Вот жалость – ведь прежде он был такой милый, интересный собеседник…
Подошел к концу и этот отпуск. Уинтерборн получил назначение и снова отправился на сборный пункт, на север страны; деревянные бараки стояли среди пустой, унылой вересковой степи, негде было укрыться от дождя и ветра, и в эту сырую зиму холод пробирал до костей. Офицеры здесь резко делились на две части, или касты: в одной – те, кто воевал с первых дней, был ранен, но выжил и переведен на постоянную службу в пределах Англии; в другой – вновь произведенные кое-кто из раненых, оставленные во внутренних войсках временно. Обедали в просторной общей столовой, но, кроме того, были еще две комнаты, то ли курительные, то ли гостиные, и, словно по молчаливому уговору, каждая группа держалась обособленно. Одни лишь выпускники Сэндхерстского училища допускались в комнату избранников, которые оставались в Англии.
Делать было почти нечего: ротный строй, поверка, немного ученья, изредка дежурство. Офнцеров-новичков, ждавших отправки на континент, оказалось так много, что казармы были переполнены и на плацу, кажется, офицеров бывало больше, чем рядовых. Похоже, что младшим пехотным офицерам цена пяточок пучок, думал Уинтерборн.
Наконец он получил приказ отправляться в действующую армию – опять во Францию, а не в Египет или Салоники, как он надеялся. Ему дали еще два дня отпуска, и он поссорился с Элизабет, которая поймала его на том, что он в первое же утро сел писать нежную записку Фанни. Он ушел от нее, возмущенный до глубины души, и весь этот отпуск провел с Фанни. С Элизабет он увиделся только вечером накануне отъезда и кое-как с нею помирился. Теперь она была вне себя от ревности, потому что ночевал он у Фанни, однако «простила» его. На войне он, видно, совсем поглупел, заявила Элизабет, и сам не понимает, что делает. Но, поскольку он сейчас опять уезжает на фронт, – что ж, можно расстаться друзьями. Они поцеловались – и Джордж ушел, так как уговорился поужинать с Фанни.
Его поезд отходил назавтра в семь утра. Он поднялся в половине шестого и поцеловал Фанни, которая сквозь сон предложила сварить ему кофе. Но он не дал ей встать, наскоро оделся, сам сварил кофе, почувствовал, что ему не до еды, и вернулся в спальню. Фанни уже уснула. С глубокой нежностью, едва касаясь губами, чтобы не разбудить, он поцеловал ее и тихонько вышел. Долго не мог найти такси и отчаянно боялся опоздать на поезд: еще заподозрят, что он нарочно задержался сверх положенного срока. На перрон он попал за минуту до отхода поезда. Носильщиков не было, но он со своим тяжелым чемоданом все же ухитрился влезть в вагон, когда поезд уже тронулся. Вагон оказался пульмановским, но в него набилось столько офицеров, что и сесть было негде, и Уинтерборну пришлось стоять до самого Дувра. Почти у всех в руках были газеты. Только что стали доходить вести о жестоком разгроме Пятой армии. Их посылали возместить потери. Уинтерборну вспомнился один разговор, это было накануне вечером…
Фанни непременно хотела, чтобы он на часок-другой заглянул с нею в один дом, неподалеку от Темпла: там собирались сливки лондонской интеллигенции. Когда они с кем-то из знакомых Фанни шли мимо вокзала Черинг-Кросс, Уинтерборн неожиданно столкнулся с капралом из своей прежней роты, только что приехавшим в отпуск.
– Ты иди, дорогая, – сказал он Фанни. – Я вас догоню. На худой конец, я ведь знаю адрес.
И обернулся к капралу Хоббсу:
– Вы все там же?
– Нет, с ноября в другой части. У Ипра захворал ногами. Чуть было не подвели меня под полевой суд, да потом замяли дело. Теперь я прикомандирован к базе.
– Повезло вам.
– Вы, верно, слыхали новости?
– Нет, что такое?
– Да, говорят, немцы вовсю наступают на Сомме, захватили нас врасплох. Мы отходим, и нашей старой дивизии вроде худо пришлось – комендант говорил, разбили ее вдребезги.
– Боже милостивый!
– Я так думаю, это правда. Отпусков никому не дают, приказ вышел. Я в самый раз поспел, а то бы не уехать. На пароходе отпускников было от силы человек десять. И повезло же мне, вовремя вырвался.
– Ну, всего доброго, старина.
– А вы, я вижу, офицером стали.
– Да, вот опять еду на фронт.
– Счастливо вам!
– И вам счастливо.
Потом Уинтерборн отыскал дом, куда они шли с Фанни. Тут собралось человек десять. Кое-кто был ему знаком. Здесь уже слышали о неудачных боях на Сомме, эту новость принес некто с улицы Уайтхолл, и теперь ее обсуждали.
– Это тяжкое поражение, – заявил осведомленный гость. – Мне говорили, что, как полагают в верхах, из-за него война будет тянуться годом дольше, и мы на этом потеряем по меньшей мере еще триста тысяч человек.
Он назвал цифру небрежно, словно она не имела особого значения. И потом Уинтерборн снова и снова слышал эти слова «триста тысяч человек», – их произносили так, будто речь шла о коровах, пенсах или редиске. Он принялся ходить взад и вперед по просторной комнате, занятый своими мыслями, держась подальше от гостей и уже не слушая их болтовни. Слова «дивизия разбита вдребезги» гулко отдавались в мозгу. Ему хотелось схватить всех, кто был в этой комнате, и всех власть имущих, и вообще всех и каждого, кто не сражается с оружием в руках, и крикнуть им в лицо: