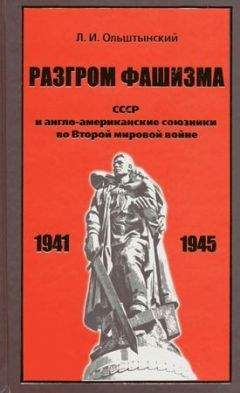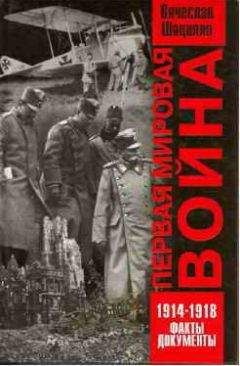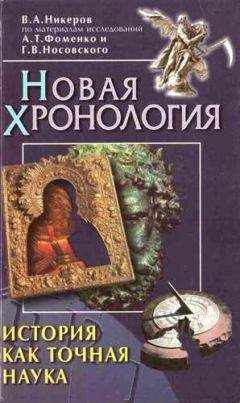Подобное утверждение неверно и как факт и как умозаключение. Уже указывалось, что царь цеплялся за власть до последнего и меньше всего хотел тихо и незаметно расстаться с жизнью самодержца ,3. Но главное в данном случае — в том, что приведенное живописное сравнение царизма с дряхлым человеком, у которого иссякли все жизненные силы, служит доказательством, как это ни странно звучит на первый взгляд, совершенно обратного вывода — самодержавие не могло рухнуть само по себе, оно погибло только благодаря революции.
Если вдуматься в смысл и значение всех приведенных в данной работе фактов, характеризующих царизм в годы войны, то поражаешься совсем обратному: какую он проявил невероятную живучесть и сопротивляемость. Казалось, в том состоянии, в котором он пребывал, и в тех обстоятельствах, в которых очутился, если мерить мерками обычного житейского здравого смысла, то должен был самопроизвольно погибнуть по крайней мере где-то в середине 1915 г. Однако ничего подобного не произошло. И в феврале 1917 г. он исчез не сам по себе, а в результате революции, длившейся неделю, и если бы ее не было, продолжал бы жить и дальше.
Это не только конкретно-историческая, но и теоретическая истина, имеющая принципиальное значение, суть которой состоит в том, что любой политический режим, включая и абсолютизм, обладает, если так можно выразиться, иммунитетом против саморазрушаемости. Объяснение этому явлению надо искать в том, что современное общество не может жить вне государства, если под этим разуметь жестко организованную, могущественную и всестороннюю управляющую обществом систему, без функционирования которой не может отправляться производственная и всякая иная деятельность общества, парализуется инфраструктура, возникает угроза наступления полного хаоса. В силу этого, как бы плохо машина управления ни работала, в ней заложены возможности частичной рецессии, обновления и укрепления ее отдельных звеньев вплоть до самых ответственных. Эта рецессия не снимает вопроса об исторической обреченности и изжитости режима, но она вполне может обеспечить какое-то продление его жизни.
Поэтому вполне реальна ситуация, когда обреченный, казалось, строй на какое-то время снова выходит из кризиса или облегчает его. Скажем, если бы Февральская революция задержалась на несколько месяцев, а ее опередило успешное весеннее наступление, положение могло бы сильно измениться в пользу контрреволюции вообще, царизма в частности и. На базе этой победы он вполне мог бы и до некоторой степени оздоровить
себя, убрав, скажем, Протопоповых и заменив их кривошеиными, особенно если бы одновременно вызрел и совершился дворцовый переворот, что также было вполне возможно. К этому надо добавить угрозу пропуска наиболее благоприятного момента для революционного натиска со стороны революционных сил, момента, представляющего собой сложный комплекс одновременного совпадения ряда объективных и субъективных факторов, крайне невыгодных для режима и, наоборот, максимально благоприятных для его противников. Наступление вновь такого момента, как показывает исторический опыт, может затянуться на неопределенно долгое время, что также дает возможность вчера еще дышавшему на ладан режиму перевести дух и перегруппировать силы.
В этой связи необходимо остановиться на тезисе о достаточности, подлинности Февральской революции и якобы ненужности и даже антиреволюционности революции Октябрьской — тезисе, являвшемся главной и общей идеей кадетов, эсеров и меньшевиков, из которой они исходили во всех своих послеоктябрьских писаниях и оценках. Конечная суть их сводилась к весьма простой формуле: Февральская революция — добро, Октябрьская — зло. Но даже Маклаков, вечный оппонент Милюкова справа, считавший ненужной не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию, воспринял эту идею весьма иронически, утверждая, конечно, по-своему, что Октябрьская революция была результатом не злой воли большевиков, а исторической закономерностью.
«В стране, столь насыщенной застарелой злобой, социальной враждой, незабытыми старыми счетами мужика и помещика, народа и барина, в стране, политически и культурно отсталой,— писал он,— падение исторической власти, насильственное разрушение привычных государственных рамок и сдержек не могли не перевернуть общество до основания, не унести с собой всей старой России. Это было величайшей опасностью, но революционеры ее не боялись». И далее: «Без Октября дело пошло бы иначе, шаблонным порядком; связь с прошлым не была бы вовсе порвана. Несмотря на революцию, прошлое, хотя не сразу, пробилось бы даже через четыреххвостку. Не будь Октября, Февраль мог остаться сотрясением на поверхности». В конечном итоге он вызвал бы и подготовил реакцию. «И если бы эта реакция восстановила порядок, то преходящие беды Февраля скоро забылись бы, потомки могли бы действительно смотреть на Февраль как на начало лучшей эпохи. В России остались бы прежние классы, остался бы прежний социальный строй, могла бы быть парламентарная монархия или республика» |5.
Приведенное высказывание является блестящим подтверждением правильности курса большевистской партии на социалистическую революцию, ибо, как они утверждали, и с чем позже согласился Маклаков, остановиться на буржуазно-демократическом этапе революции означало на деле вернуться со вре-
менем к прежнему, к реставрации монархии, пусть чуточку подновленной, но неизменной в своей главной сути. Без Октября был бы ликвидирован и Февраль — вот ответ на вопрос, какая из двух революций была «настоящей». Маклаков великолепно подтверждает также исключительную важность мысли В. И. Ленина о том, что революция, если она действительно хочет победить, должна зайти несколько дальше тех задач, которые она призвана осуществить.
Сравнительная легкость, с какой был свергнут царизм, в свете всего сказанного говорит не о саморазрушении, не о восьмидневном «чуде», как утверждал Милюков, а о том, что В. И. Ленин характеризовал как отличную отрепетированность революции, достигнутую в ходе революции 1905—1907 гг. и последующих классовых битв. «Эта восьмидневная революция,— писал он,— была, если позволительно так метафорически выразиться, „разыграна" точно после десятка главных и второстепенных репетиций; „актеры" знали друг друга, свои роли, места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько- нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия» |6. Да, «актеры» действительно очень хорошо знали друг друга. Контрреволюция отдавала себе полный отчет, какая революция ожидает страну, если она проиграет, и контрреволюция боролась до последнего, даже призрачного шанса. Но проиграла. Революция, народ оказались сильнее. История рано или поздно вершит свой суровый, но справедливый приговор.
Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. С. 337.
Иольде Б. Э. В. Д. Набоков в 1917 г. // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 7. С. 10.
Маклаков В. Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // Современные записки. Париж, 1928. Т. 34. С. 279 , 280.
Вишняк М. Падение русского абсолютизма // Современные записки. Париж, 1924. Т. 18. С. 250, 263.
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С 359
Там же. Т. 22. С. 131, 132.
См.: Аврех А. Я. Раскол фракции октябристов в IV Думе // История СССР. 1978. № 4. С. 115—127.
Политика буржуазии в годы войны и деятельность Прогрессивного блока исследована автором в монографии «Распад третьеиюньской системы» (М„ 1984).
Шульгин В. В. Дни. С. 103.
Нольде Б. Э. Из истории русской катастрофы // Современные записки. Париж, 1927. Т. 30. С. 542.
На фоне всего этого отчаяния и тревоги, овладевших господствующими классами накануне революции, странно неправдоподобной выглядят эйфория и патологическое непонимание обстановки у царской четы и ее последней гвардии. 25 февраля, свидетельствует Спиридович, он был принят министром внутренних дел: «Протопопов был в веселом настроении и, как всегда очарователен». По его же словам, не только Протопопов, но и директор департамента полиции и начальник столичной охранки не понимали, что в России началась революция .(Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция, 1914—1917 гг. Нью- Йорк, 1960. Кн. 3. С. 98—99). Известную телеграмму царя Хабалову о немедленном подавлении беспорядков также надо считать свидетельством
такого непонимания. 27 февраля Белевская встретила на улице начальника контрразведки ставки полковника О. и задала ему вопрос «о беспорядках» в Петрограде. «Он был спокоен и весел. „Беспорядки",— сказал он,— но им же, бунтовщикам, хуже. Повесим два, три десятка и все будет спокойно» (Белевская М. [Ле- тягина]. Ставка верховного главнокомандующего в Могилеве, 1915— 1918 гг.: Личные воспоминания. Вильно, 1932. С. 29). Такова была оценка событий в ставке, надо полагать, не только одним бравым полковником.