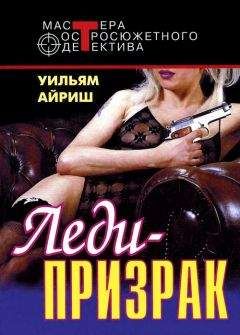– Что это на тебя вдруг накатило? – шепнула она, маково зардевшись и вмиг помолодев.
– А ничего, просто люблю тебя, мать, вот и всё, – ответила Твердяна, выпрямляясь, но не снимая рук с плеч супруги. – Ну что… Подавайте кутью, родные мои. Потом прогуляемся, навестим Тихую Рощу, наберём воды из Тиши, а тогда уж и пообедать как следует можно.
Кузня сегодня не гудела и не раскатывалась подземным звоном – тоже, согласно обычаю, хранила молчание. За кутью можно было сесть и в повседневной одежде, а вот к выходу в Тихую Рощу следовало принарядиться, тем самым подчёркивая, что День поминовения – совсем не печальный, а светлый праздник, и по ушедшим не тоскуют, а радуются за них их оставшиеся на земле родичи. Дарёна долго перебирала целую охапку нарядов – щедрый дар Лесияры; в любом из них она выглядела бы княжной, но княжеской пышности ей не очень хотелось. Ей дорога была та запятнанная кровью шубка, в которой она приняла стрелу, предназначенную Цветанке, но шубки этой больше не было, а взамен княгиня пожаловала девушке новую, ещё лучше и роскошнее – белую, облицованную серебряной парчой и расшитую жемчугом.
Долго наряжались и Крылинка с Рагной и Зорицей, а женщины-кошки ждали их, уже давно готовые – только шапки надеть. Из дома вышли парами – супруга с супругой в сопровождении детей; за Гораной и Рагной следовали Светозара с Шумилкой, Огнеслава же на одной руке несла дочку, а другую подставила для опоры Зорице. Последними шли Млада с Дарёной; девушка хранила молчание, но внутренне дрожала от благоговейного волнения. Один шаг сквозь пространство – и она воочию увидит чудесные деревья, хранившие покой дочерей Лалады век за веком…
Рассвело, и косые розовые лучи румянили снег. Красные с золотым узором сапожки Дарёны хрустко примяли его, а потом шагнули в водянисто колышущийся проход. Мгновение – и вся семья очутилась в спокойной долине, укрытой со всех сторон горами. Снежные вершины янтарно горели в голубой дымке, а перед обомлевшей Дарёной раскинулся торжественно-светлый бор, в котором росли необычного вида сосны – кряжистые, могучие, похожие на былинных богатырей-великанов в зелёных «штанах» из мха. Назвать их уродливыми не поворачивался язык, хотя устремлённой к небесам стройности не было среди их достоинств. Кривые ветви напоминали раскинутые в стороны руки с растопыренными пальцами, а обнажённые верхние корни обнимали землю, покрытую ковром сочной травы… Дарёна будто попала из зимы в вечную весну, даже шубку скинуть захотелось – так тут было тепло. И жар этот исходил от земли.
Лица… У деревьев были лица, проступавшие между лоскутками лопнувшей коры. Не из живой человеческой плоти, а словно вырезанные прямо в стволах, эти лица с приподнятыми подбородками как будто ловили солнечный свет или дождевую воду – смотря по погоде. Они «смотрели» в небо, хотя деревянные веки были сомкнуты. Какие-то из них, гладкие и светлые, проступали ясно и выпукло, а другие, потемневшие и покрытые трещинами, едва угадывались. Просматривались в стволах и очертания тел, одетых в шершавую сосновую кору – шеи и могучие плечи, а поднятые руки-ветви с длинной и пушистой хвоей серебрились и радужно мерцали от хрустальных росинок.
Здесь царил неземной покой, излучаемый этими лицами и наполнявший всю Рощу прозрачной, умиротворяющей тишиной, чистой, сладкой и сверкающей, как глоток родниковой воды. Роща безмятежно спала, пронизанная лучами утреннего солнца, на которых, как на струнах, чьи-то невидимые пальцы играли песнь света. Оробевшая Дарёна прильнула к Младе, и та обняла её за плечи одной рукой, а другой сжала её пальцы, подбадривая. В Роще они находились не одни: между чудесными деревьями в почтительном молчании ходили другие жительницы Белых гор. Найдя своих предков, они останавливались перед ними целыми семьями в несколько поколений и подолгу смотрели в деревянные лица, словно ждали какого-то мудрого слова с навеки сомкнутых губ.
Повинуясь руке Млады, Дарёна снова шагнула сквозь пространство, а по ту сторону шага их ожидала огромная, очень старая чудо-сосна. Часть её кроны уже засохла, лишившись хвои, а часть ещё зеленела, включая и «ветверуки». Стояла она обособленно на светлой полянке, поросшей – это среди зимы-то! – зреющей земляникой. Щедрой рукой солнца были разбросаны душистые ягоды в траве, и их запах, усиливаемый теплом земли, щемяще-сладко ласкал обоняние. Чудесное же место выбрала себе для упокоения эта женщина-кошка! Вглядываясь, Дарёна узнавала семейные черты Твердяны и её дочерей: нос, рот, очертания бровей… Казалось, будто не сосна вобрала в себя человеческое тело, а тело рождалось из ствола, упрямо рвалось наружу, да так и застыло на полпути, успев высвободить только лицо, шею, плечи, верхнюю часть груди, а руки, словно приглашая небо в свои объятия, раскинулись мощными узловатыми ветвями. Фигура женщины-кошки в сосне была намного выше человеческого роста, и разглядеть её лицо с земли можно было только на почтительном расстоянии от дерева – с края полянки, где вся семья Твердяны сейчас и стояла.
Густая, тёплая солнечная сила наполняла это место, где мудрость веков улыбалась без превосходства, даря потомкам лишь свою любовь и свет. Покой осязался кожей, наполняя воздух летне-земляничным благоуханием и беря всех входящих на полянку в круг своей ласковой защиты. Здесь само время открывало свою гулкую головокружительную бездну, на краю которой Дарёна ощущала себя такой маленькой и глупой, что слёзы наворачивались на глаза. Уходить отсюда не хотелось, а хотелось вечно вбирать в душу этот очищающий мудрый свет. Твердяна сняла шапку, и чёрная коса распрямилась и повисла вдоль её спины, а голова засияла в лучах солнца ореолом блеска. Сжимая шапку в руке, она отвесила дереву поясной поклон, и все последовали её примеру. Дарёна сорвала несколько самых красных ягодок земляники и кинула в рот, но съела не сразу, а немного подержала на языке, ощущая их шершавость и сладость.
Они посетили ещё несколько деревьев – судя по чертам лиц, это были предки Твердяны. Украдкой озираясь, Дарёна видела и молодые, пустые сосны, и старые, присутствие обитательницы в которых угадывалось лишь по еле заметным выступам на стволе, смутно напоминавшим лицо. Видимо, это были самые древние упокоенные, тела которых уже почти поглотились деревом, а души пребывали в глубочайшем, беспробудном покое.
Навестив всех родичей Твердяны, они отправились «в гости» к предкам Крылинки: та родилась в горном селе, в семье мастера-кожевника, женщины-кошки по имени Медведица. Сама Медведица была ещё жива, всё так же выделывала и продавала кожу, а в Тихой Роще покоились её прародительницы, которым тоже следовало отдать дань почтения.
Дарёну же между тем не отпускала от себя земляничная полянка – манила вернуться, поесть ещё ягод да и прикорнуть на тёплой земле у подножья сосны, устроив голову на её могучем корне. Это было самое тихое и защищённое место, прямо-таки созданное для безмятежного сна, по-детски светлого и приносящего истинное отдохновение; повинуясь ласковым чарам, девушка выбрала миг, когда все задумчиво смотрели на дерево-предка, отступила немного назад и с помощью чудесного кольца тихонько перенеслась обратно к самой первой сосне.
Полянка встретила её земляничным духом, раскрывая ей тёплые объятия. Дарёна шагнула раз, другой, третий, не сводя взгляда с одеревеневшего лица, кое-где пересечённого трещинками… Наверно, эти глаза когда-то метали молнии, но сейчас они спали под сосновыми крышками век; брови одним своим изгибом приводили в трепет всякого, кто говорил с этой женщиной-кошкой, а теперь нависали над закрытыми глазами козырьками из мха. Губы эти, должно быть, умели и петь, и улыбаться, и целовали любимую женщину в далёком прошлом, а нынешним их уделом стало лесное молчание… Ладонь Дарёны легла на сосновую кору, оказавшуюся неожиданно тёплой, как человеческая кожа.
– Здравствуй, – шепнула девушка.
Миг – и из глубины богатырски-необъятного ствола донёсся скрипучий стон. Отдёрнув руку, испуганная Дарёна отскочила и попятилась, а со всех сторон на неё надвигалось что-то колдовски шепчущее, невидимое. Незримой подушкой оно упёрлось ей в спину, не давая отступать дальше, а сосна смотрела на неё до жути знакомыми синими яхонтами глаз, слезившимися янтарными капельками смолы. Крик умер в горле Дарёны, так и не родившись, а солнце обрушило ей на макушку ослепительный кулак…
Сознание не потерялось, оно просто сжалось в теле в крошечный, охваченный то ли восторгом, то ли ужасом комочек. Превратившись в туго свёрнутый зародыш листка в спящей почке и заблудившись в пластах времён, сквозь зелёные ресницы лесного покоя Дарёна то ли видела, а то ли вспоминала, как сосновые руки-ветви подняли её с земли и бережно держали, пока на полянке не оказались Млада с Твердяной. На их лица лёг отсвет яхонтового взора, и Млада застыла столбом, а Твердяна шепнула ей: