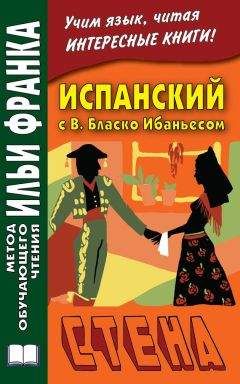Стремленія молодости не увлекали его за предѣлы здороваго опьяненія силою и движеніемъ.
Обиліе моделей въ Римѣ дало ему возможность раздѣть въ своей мастерской одну ciocioara и съ наслажденіемъ нарисовать формы ея обнаженнаго тѣла. Онъ заливался громкимъ смѣхомъ здороваго человѣка, разговаривалъ съ нею такъ же свободно, какъ съ любой женщиною, попадавшейся ему ночью на улицѣ, но какъ только сеансъ былъ оконченъ, и модель одѣта… маршъ на улицу! Реновалесъ былъ чистъ, какъ обыкновенно всѣ сильные люди, и обожалъ нагое тѣло только какъ художникъ. Онъ стыдился животнаго прикосновенія и случайныхъ встрѣчъ безъ любви и увлеченія, съ неизбѣжной сдержанностью двухъ существъ, которые не знаютъ и подозрительно разглядываютъ другъ друга. Онъ жаждалъ только ученья, а женщины всегда служатъ помѣхой въ серьезныхъ начинаніяхъ. Избытокъ энергіи уходилъ у него на атлетическія упражненія. Послѣ какой-нибудь особенной продѣлки спортивнаго характера, приводившей его товарищей въ восторгъ, онъ чувствовалъ себя свѣжимъ, бодрымъ и крѣпкимъ, какъ послѣ ванны. Онъ фехтовался съ французскими художниками на виллѣ Медичи, учился боксу съ англичанами и американцами, устраивалъ съ нѣмцами экскурсіи въ лѣсокъ въ окрестностяхъ Рима, о которыхъ говорилось потомъ нѣсколько дней въ кафе на Корсо. Онъ выпивалъ безконечное множество стакановъ за здоровье Kaiser'а, котораго не зналъ и которымъ нимало не интересовался, затягивалъ громовымъ голосомъ традиціонный Gaudeamus igitur и въ концѣ концовъ подхватывалъ на руки двухъ натурщицъ, принимавшихъ участіе въ пикникѣ и, поносивъ ихъ по лѣсу, опускалъ на траву, словно перышки. Добрые германцы, изъ которыхъ многіе были близоруки и болѣзненны, восторгались его силою и сравнивали его съ Зигфридомъ и прочими мускулистыми героями своей воинственной миѳологіи, вызывая у Реновалеса лишь довольную улыбку.
На масляницѣ, когда испанцы устроили процессію изъ Донъ Кихота, Маріано взялъ на себя роль кабальеро Пентаполина «съ засученными рукавами», и сильная мускулистая рука коренастаго паладина верхомъ на лошади вызвала на Корсо громъ апплодисментовъ и крики восторга. Съ наступленіемъ весеннихъ ночей художники имѣли обыкновеніе ходить процессіей черезъ весь городъ до еврейскаго квартала, ѣсть первые артишоки – римское народное кушанье, приготовленіемъ котораго особенно славилась одна старая еврейка. Реновалесъ шелъ во главѣ этой carciofolatta co знаменемъ въ рукахъ, распѣвая гимны, чередовавшіеся со всевозможными криками животныхъ, а товарищи слѣдовали за нимъ съ дерзкимъ и вызывающимъ видомъ, подъ предводительствомъ такого сильнаго вожака. Съ Маріано нечего было бояться, и товарищи вполнѣ разсчитывали на него. Въ узкомъ, кривомъ переулкѣ за Тибромъ онъ ударилъ разъ на смерть двухъ мѣстныхъ разбойниковъ, отнявъ у нихъ предварительно кинжалы.
Но вскорѣ атлетъ заперся въ академіи и пересталъ спускаться въ городъ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней только и было толковъ, что объ этомъ, на собраніяхъ художниковъ. Онъ писалъ картину. Въ Мадридѣ должна была состояться въ скоромъ времени выставка, и Реновалесу хотѣлось написать для нея картину, которая показала бы, что онъ получаетъ стипендію не даромъ. Двери его мастерской были заперты для всѣхъ рѣшительно; Маріано не допускалъ къ себѣ ни совѣтниковъ, ни критиковъ. Картина должна быпа появиться въ Мадридѣ въ такомъ видѣ, какъ онъ самъ понималъ ее. Товарищи скоро забыли о немъ; Маріано окончилъ свою работу въ одиночествѣ и увезъ ее на родину.
Успѣхъ получился полный. Это былъ первый крупный шагъ на пути къ славѣ. Реновалесъ вспоминалъ впослѣдствіи со стыдомъ и. угрызеніями совѣсти о большомъ шумѣ, поднятомъ его огромною картиною Побѣда при Павіи. Публика толпилась передъ нею, забывая объ остальныхъ картинахъ. И ввиду того, что правительство сидѣло въ это время крѣпко, кортесы были закрыты, и на боѣ быковъ ни одинъ матадоръ не былъ серьезно раненъ, газеты, за неимѣніемъ болѣе интереснаго матеріала, стали наперерывъ воспроизводить на своихъ страницахъ картину и портреты Реновалеса маленькіе и большіе, въ профиль и en face, наполняя цѣлые столбцы описаніями и подробностями его жизни въ Римѣ и вспоминая со слезами умиленія о бѣдномъ старикѣ, который ковалъ желѣзо въ далекой деревнѣ, ничего почти не зная о славѣ сына.
Реновалесъ сразу перешелъ изъ мрака въ яркій свѣтъ славы. Старики – члены жюри – относились къ нему теперь благодушно, даже съ нѣкоторымъ состраданіемъ. Дикое животное укрощалось въ немъ постепенно. Реновалесъ повидалъ свѣтъ и возвращался къ добрымъ старымъ традиціямъ, дѣлаясь художникомъ, какъ всѣ остальные, Въ картинѣ его были мѣста, напоминавшія Веласкеса, отрывки, достойные кисти Гойи, уголки, имѣвшіе чтото общее съ живописью Греко. Всего было здѣсь, только не было прежняго Реновалеса, и эта-то амалыама воспоминаній и ставилась ему главнымъ образомъ въ заслугу, вызывала всеобщее одобреніе и завоевала ему первую медаль.
Начало карьеры было превосходно. Одна герцогиня вдова, покровительствовавшая искусству, пожелала, чтобы ей представили Реновалеса; она никогда не покупала ни статуй ни картинъ, но приглашала къ своему столу знаменитыхъ художниковъ и скульпторовъ, находя въ этомъ дешевое удовольствіе и исполняя долгъ знатной дамы, Реновалесъ поборолъ въ себѣ нелюдимость, державшую его всегда вдали отъ общества. Почему бы не посмотрѣть ему высшаго свѣта? Чѣмъ онъ хуже другихъ? И онъ сшилъ себѣ первый фракъ. За банкетами герцогини, гдѣ онъ вызывалъ веселый смѣхъ своею манерою разговаривать съ академиками, послѣдовали приглашенія въ другіе салоны; въ теченіе нѣсколькихъ недѣль онъ былъ центромъ вниманія высшаго свѣта, нѣсколько шокированнаго его нарушеніемъ салоннаго тона, но довольнаго робостью, которая являлась у него всегда послѣ веселыхъ выходокъ. Молодежь цѣнила его за то, что онъ фехтовался, какъ Святой Георгій; въ ея глазахъ онъ былъ вполнѣ приличнымъ человѣкомъ, несмотря на то, что былъ художникомъ и сыномъ кузнеца. Дамы старались очаровать его любезными улыбками въ надеждѣ, что модный художникъ почтитъ ихъ безплатнымъ портретомъ, какъ онъ сдѣлалъ уже съ герцогиней.
Въ эту эпоху его жизни, когда онъ надѣвалъ каждый вечеръ фракъ и писалъ только потреты дамъ, которыя жаждали выйти покрасивѣе и серьезно обсуждали съ нимъ, какое надѣть платье для позированія, онъ познакомился со своею будущею женою Хосефиною.
Увидя ее впервые среди болтливыхъ дамъ съ надменною осанкою, Реновалесъ почувствовалъ къ ней влеченіе въ силу контраста. Робкій видъ, скромность и незначительная внѣшность молодой дѣвушки произвели на него сильное впечатлѣніе. Она была маленькаго роста, лицо было привлекательно лишь свѣжестью молодости, фигурка – граціозно-хрупка. Подобно Реновалесу, это созданіе вращалось въ высшемъ обществѣ только благодаря снисхожденію окружающихъ; она занимала, казалось, чье-то чужое мѣсто и съеживалась, словно боясь привлечь на себя вниманіе. Одѣта она была всегда въ одно и тоже нѣсколько поношенное вечернее платье, утратившее свѣжесть изъ-за постоянной передѣлки въ погонѣ за послѣдней модой. Перчатки, цвѣты, ленты выглядѣли на ней всегда какъ-то печально, словно говорили о тяжелой экономіи бережливости въ домашнемъ хозяйствѣ и прочихъ лишеніяхъ, потребовавшихся для пріобрѣтенія этихъ вещей. Хосефина была на ты со всѣми молодыми дѣвушками, блиставшими въ модныхъ салонахъ, и расхваливала съ завистью ихъ новые туалеты; мамаша ея, величественная особа съ огромнымъ носомъ и очками въ золотой оправѣ, была въ близкихъ отношеніяхъ съ самыми знатными дамами. Но несмотря на эти связи, вокругъ матери и дочери замѣчалась какая-то пустота, слегка презрительная любовь, смѣшанная съ изрядною долею состраданія. Онѣ были бѣдны. Отецъ былъ довольно извѣстнымъ дипломатомъ и не оставилъ женѣ по своей смерти никакихъ средствъ къ жизни кромѣ вдовьей пенсіи. Двое сыновей были заграницей атташе при испанскомъ посольствѣ и съ трудомъ сводили концы съ концами при крошечномъ жалованіи и большихъ расходахъ, требовавшихся ихъ положеніемъ. Мать и дочь жили въ Мадридѣ, цѣпляясь за общество, въ которомъ онѣ родились, и боясь лишиться его, какъ-будто это было равносильно униженію; день онѣ проводили въ маленькой квартиркѣ третьяго этажа, меблированной остатками бывшаго величія, а по вечерамъ выѣзжали въ свѣтъ, подвергая себя невѣроятнымъ лишеніямъ ради того, чтобы достойнымъ образомъ встрѣчаться съ тѣми, которые были прежде равны имъ.
Нѣкоторые родственники доньи Эмиліи, мамаши Хосефины, оказывали ей помощь, но не деныами (это никогда), а избыткомъ своей роскоши, чтобы она и дочь могли представлять слабое подобіе довольства. Одни посылали имъ иногда свой экипажъ, чтобы прокатиться по аллеѣ Кастельяна и по парку Ретиро, гдѣ онѣ раскланивались съ катающимися пріятельницами; другіе давали имъ время отъ времени свою абонементную ложу въ Королевскомъ театрѣ, въ дни неинтересныхъ представленій. Состраданіе не позволяло богатымъ родственникамъ забывать о матери и дочери и передъ семейными обѣдами и другими торжествами. «He забыть бы бѣдныхъ Торреалта…» И на слѣдующій день въ великосвѣтской хроникѣ отмѣчались въ числѣ присутствовавшихъ на торжествѣ «прелестная сеньорита де Торреалта и ея почтенная мать, вдова незабвеннаго, знаменитаго дипломата». Донья Эмилія забывала тогда свое положеніе, воображая, что вернулись опять хорошія времена, и пролѣзала всюду въ своемъ вѣчномъ черномъ платьѣ, преслѣдуя своею навязчивостью важныхъ дамъ, горничныя которыхъ были богаче и питались лучше, чѣмъ она съ дочерью. Если какой-нибудь старый господинъ подсаживался къ ней, дипломатическая дама старалась уничтожить его своими величественными воспоминаніями. «Когда мы были посланниками въ Стокгольмѣ…» или «Когда мой близкій другъ Евгенія была императрицей…»