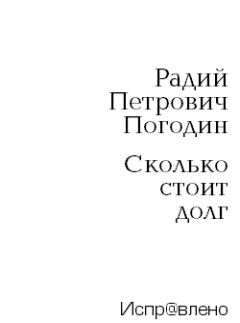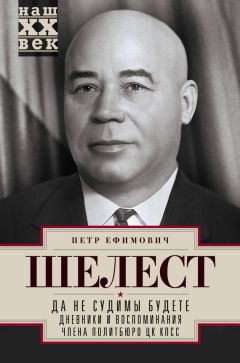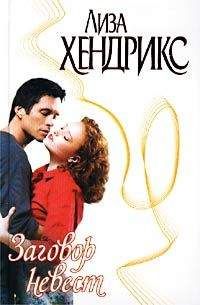В октябре 1923 года я вступил в комсомол. Со мной вместе с нашей улицы вступили в комсомол еще 5—6 человек, в том числе Коробка Афанасий и его старшая сестра Химка. Все мы условились не говорить родителям о нашей «официальной» принадлежности к комсомолу. Но разве это можно долго скрывать? Начали посещать комсомольскую ячейку, где проводили собрания, занятия политграмоты, устраивали разного рода диспуты, спорили до хрипоты. Вскоре наша ячейка насчитывала уже около 30 человек. Чувствовалась большая спаянность и настоящая комсомольская дружба. Руководили нами Клава Скрынник и Иван Шерстнюк — это были по тем временам грамотные ребята, окончившие гимназию. Работали на какой- то советской работе, да и постарше нас были лет на пять.
Политграмоту мы «проходили» по Коваленко, а политэкономию по Н. Бухарину
Конечно, многое не было для нас понятным, но жить нам было интересно. Мы вели разговоры о мировой революции, о «всемирном пожаре», хоть сам «мир» для нас был довольно отдаленным и ограниченным понятием. Спорили о коммунизме. Что это такое и как его строить? Возможно ли построить его в отдельной стране, или же это явление международного значения? Причем говорили часто уже о «мировом коммунизме», не имея по этому вопросу ни малейшего представления. Мы говорили, и нам рассказывали, что коммунизм — это когда все будет общее: будем жить коммуной, не будет буржуев, богатых и бедных, и все будут равны. Отомрет государство, не будет армии. Все вместе взятое для нас было сплошным туманом и далеким миражом. Спорили о стихах В. Маяковского и громили «есенинщину» ее пессимизм и мещанство. Выступали против ношения галстуков и танцев как против мещанско-буржуаз- ных пережитков, несовместимых с новым обществом. Обсуждали планы антирелигиозных мероприятий. Выпускали стенную газету и клеймили Чемберлена. Пели песни: «Наш паровоз, вперед лети» и «Взвейся знамя...» «Интернационал» исполняли все равно как когда-то в школе молитву или «Боже, царя храни!».
Много спорили о нэпе но так до конца и не понимали всего великого значения «новой экономической политики» для нашего государства. Появилось новое слово — «нэпман». Оно стало нарицательным и звучало грознее чем контрреволюция, «мировая гидра», капитализм, буржуазия, ибо все это было дальше от нас, а «нэпмана» мы видели каждый день в своей жизни. Говорили, что в период нэпа много вышло из партии коммунистов-большевиков, и даже заслуженных:, они не были согласны с Лениным по введению в стране нэпа. Но это происходило по «идейным» убеждениям. Мы же многого не понимали, да и «идейности» у нас было на «ноготь». Но нэпман у нас вызывал какое-то молодежное «бунтарство», возмущение самим нэпманом. Нас в комсомольской ячейке больше волновали вопросы трудоустройства комсомольцев и молодежи через биржу труда и профсоюз. Невозможно перечислить все вопросы, которые обсуждались и принимались на собраниях комсомольской ячейки. Обсуледался вопрос и о том, кого из наших комсомольцев рекомендовать в ЧОН. Членом ЧОНа стал и я.
Мои родные, отец и мать, все же скоро узнали, что я комсомолец. Был большой скандал. Мать ругалась, плакала, угрожала, приводила в пример некоторых «порядочных» сьшков и дочерей нэпманов, у которых она стирала белье и выполняла другую домапшюю работу. Отец отнесся к этому более спокойно. Он говорил матери: «Брось ругаться и голосить, надо разобраться с этим вопросом. Ты ведь ничего в этих делах не понимаешь». После такого замечания отца мать немного успокоилась. Когда я отцу рассказал, чем мы занимаемся, его больше всего привлекло то, что мы читаем книги. Он попросил меня показать ему книгу, по которой мы занимаемся. Это была «Политграмота» Коваленко. Отец внимательно просмотрел комсомольскую политграмоту. Не знаю, разобрал ли что он в ней, но одобрительно сказал: «Это хорошо, что вы читаете книги. Чтение книг — это образование».
Но однажды я пришел домой с наганом и саблей, то было чоновское вооружение. Отец неодобрительно об этом отозвался: «Я,— говорил он,— двадцать пять лет носил оружие. Не один раз смотрел смерти в лицо, видел много горя и смертей. И мне не хотелось бы, чтобы ты связал свою жизнь с оружием». Но это было его желание, а время требовало своего, и оно ни мне, ни отцу не было подвластно. Моя комсомольская «легализация» кончилась благополучно, что значительно облегчило мое состояние. На работе в паровозной бригаде тоже стало известно, что я стал комсомольцем. На первых порах отношение ко мне стало какое-то натянутое. Почему-то в то время считали, что комсомолец — это лишняя забота, «всегда вынесет сор из избы», чуть ли не «осведомитель». Но спустя короткое время все наладилось, отрегулировалось, и взаимоотношения стали прекрасными. Спустя некоторое время и я ^ комсомоле начал работать довольно активно: вел группу ликбеза участвовал в работе драмкружка.
Умер В. И. Ленин. Об этом мы узнали поздно вечером, когда в клубе шло комсомольское собрание и наша комсомольская ячейка почти полностью бьша в сборе. Помню, на клубной сцене появился какой-то интеллигентный мужчина и объявил о кончине вождя всемирной революции В. И. Ленина. Все встали и почтили память Ленина. В зале кое-где раздались рыдания — это плакали наши старшие товарищи. Откровенно говоря, мы, младшие, не совсем понимали всей невосполнимости утраты. Но все же чувствовали, что произошло что-то трагическое, вызвавшее такую скорбь и боль у старших. В этой тягости и мы как-то повзрослели.Когда мы немного отошли от первого удара — сообщения о смерти В. И. Ленина, кто-то предложил спеть песню: «Мы жертвою пали в борьбе роковой...» Как нам тогда говорили, это была любимая песня Ильича, и ее пел весь зал. На душе у каждого из нас оставалась какая-то особая тяжесть, по домам мы расходились против обычного тихо, молча. На второй день почти все комсомольцы нашей ячейки пришли в клуб. Нам надели траурные повязки на рукава, и мы стали в почетный караул у портрета В. И. Ленина, обрамленного траурной рамкой. Была во всем скорбная тишина, и даже разговор велся вполголоса. Траурные повязки мы носили до самых похорон В. И. Ленина. Вся тревожная, горестно-скорбная обстановка этих дней мне запомнилась на всю жизнь.
После смерти Ленина комсомол начал носить имя Ленина — Ленинский комсомол.
Помню, большим событием в комсомольской ячейке было приобретение батарейного радиоприемника и проекционного фонаря с набором разных диапозитивов. Вечерами мы слушали радио и, удивляясь этому, смотрели «туманные картины» и радовались, что все это пополняло наши скудные знания. Так мы расширяли свой кругозор. Спустя некоторое время я в Харькове купил детекторный радиоприемник, привез его домой, натянул антенну почти через весь двор, и в нашей хате начали слушать через наушники радиопередачи. Отец к этой новинке отнесся с большим интересом, слушал передачи и по-своему комментировал передаваемое. Мать, послушав один раз, отказалась больше слушать, заявив, что это говорит нечистая сила. Слушать радиопередачу приходили соседи, в особенности этим интересовался Антон Чаговец. Это был грамотный мужик, впоследствии он стал руководяш;им советским работником в нашем районе. Его сын Николай, старше меня на два года, не захотел работать на железной дороге, а поехал работать на шахту в Донбасс, да там вскоре и погиб в шахте при аварии.
С каждым грдом я чувствовал, как растет, расширяется мой кругозор, появилось страстное желание учиться, но у меня такой возможности не было. Мой младший брат Митя закончил к этому времени семилетку и поступил в Изюмский педагогический техникум. Я ему завидовал, но доброй завистью. Мои некоторые сверстники тоже учились, кто в. Харькове, кто в Изюме, в разных техникумах и на подготовительных курсах. Я же работал на железной дороге в паровозном депо на станции Основа. Работал уже четыре года, привык к своему делу, мечтал стать машинистом паровоза. Я полюбил все, связанное с паровозом, и мне это нравилось. Думал, что всю свою жизнь и судьбу навсегда свяжу с работой на железной дороге. Мне пошел 18-й год. По тому времени это уже вполне взрослый и самостоятельный человек. Мать по-прежнему работала на поденных работах — стирала белье, полола огороды, убирала квартиры. Как-то она попросила меня пойти с ней в один дом поколоть дрова. Я согласился. Дом этот был «вдовы Чаговчи- хи». Говорили, что ее муж был каким-то крупным коммерсантом и торговцем. Семья состояла из хозяйки-барыни, женщины лет 45, красивой, стройной, властной, горделивой. Ее сын Михаил, горбун, телеграфист на железнодорожной станции, всегда ходил щегольски одетым в форму телеграфиста, но любил выпить. Несмотря на свою «интеллигентность», он с «се- ряками» был общителен и обходителен. Дочь Юлия, красивая девушка лет 16, с большой черной косой, к тому времени окончила гимназию и собиралась поступать в Харьковский педагогический институт.