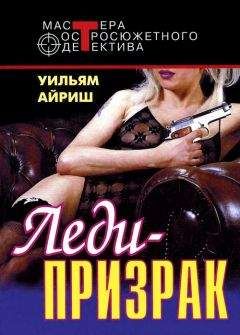Нет, она парила белой птицей над Поясом Нярины, покрытым седой щетиной зимнего леса, а к её щеке прижималась щека Лесияры, и на сей раз это происходило не во сне, а наяву. Наяву горный воздух врывался в грудь, наполняя её леденящей свободой; наяву солнце брызгало из-за облака ослепительным потоком, превращая снег в сияющее полотно, по которому хотелось мчаться и кричать от распирающего душу восторга; наяву губы повелительницы женщин-кошек шептали:
– Жданка… моя… лада…
И наяву же, открыв глаза, Ждана глянула вниз и покачнулась, но руки Лесияры держали её крепко. Повернув её к себе лицом, владычица Белых гор щекотала дыханием её щёки, брови, веки и губы.
– Твоя, – удерживая равновесие на краю бездны, выдохнула Ждана.
Что такое двадцать лет разлуки? Иней на ресницах, сомкнутых в будущее. Стоило только их разомкнуть, как ветер принялся вплетать снежные ленты в волосы и выдувать из глаз слёзы по промелькнувшей юности, но недолго… Потому что над горами раскинула облачные крылья бескрайняя свобода – лететь куда угодно и когда угодно, а главное – рука об руку с единственно нужной сердцу ладой. Лезвие ветра резало губы, не желая, видимо, чтобы поцелуй состоялся, но Лесияра подняла руку – и вокруг них улеглась тишина в огромной пушистой шубе. Два дыхания смешались в одно, и цветок нежности зашевелился, распуская свои влажные, чуткие лепестки без страха быть схваченным и убитым поднебесной стужей.
*
На берегу замёрзшей реки блестела высокая и длинная горка, сложенная из снега и облитая водой. В ступеньки были вморожены отрезки соснового горбыля с шершавой корой – для удобства подъёма. Скатывались по-всякому: на салазках, на полене, в корыте, на крышке от кадушки, а то и просто так – на собственном мягком месте. Подогретые изнутри хмельным, жительницы Кузнечного съезжали с горы с хохотом, гиканьем и визгом, теряя шапки и кувыркаясь; порой кто-то, начиная скатывание на салазках, заканчивал его уже на животе и с красным, залепленным снегом лицом, на котором цвела и пахла хмельком улыбка от уха до уха. Больше всего, конечно, веселились дети, но и подвыпившие взрослые не отставали от них по части дурачеств. Иногда с горки съезжал целый клубок из людей, перепутавшихся руками и ногами: салазки имелись не у всех, но счастливым их обладателям в одиночку ими пользоваться не давали. На одни салазки нагромождалась уйма желающих прокатиться, и вот такой живой, шевелящейся и кричащей кучей гости на помолвке Дарёны и Жданы скатывались по длинному, льдисто сверкающему склону. «Ух! Ах!» – и куча распадалась, салазки переворачивались, и веселящиеся жительницы Кузнечного ехали до конца ледяного спуска уже друг на друге, как попало: кто на боку, кто на спине, кто на животе, а кто и вверх ногами. Староста Снежка собиралась было скатиться вместе с супругой на добротных и красивых, расписных салазках – хоть сейчас в свадебный поезд их запрягай – но не тут-то было: сзади бесцеремонно навалилось с полдюжины односельчанок – молодых, ещё не связанных узами брака работниц кузни. Сверкая выбритыми черепами (шапки были давно потеряны) и откидывая путающиеся у лиц разномастные косы, они так сдавили Снежку с супругой со всех сторон, что те даже пикнуть слово возражения не смогли, не то что столкнуть нахалок. Раздались вопли:
– У-ух!
– Э-ге-гей!
– А-а-а!
– Поехали-и-и!
Толчок. «Вж-ж-ж-ж…» – заскользили по льду полозья, а под конец спуска салазки, как и следовало ожидать, опрокинулись, и в сутолоке стало не разобрать, где староста, а где её жена.
– А ну, руки убери, нахалка!
Хлоп! Синица, пышногрудая и румяная супруга Снежки, влепила зеленоглазой обладательнице пшеничной косы смачную пощёчину, и началось бурное выяснение, кто, кого и за какие места облапал. Хоть по морде досталось одной зеленоглазке, но, вне всяких сомнений, рук к соблазнительной старостихиной груди в такой давке приложилось несколько, если не сказать – все. Впрочем, молодых холостячек тоже можно было понять: эта восхитительная грудь так туго обтягивалась подпоясанным полушубочком, что застёжка лопнула, и прелести Синицы вырвались на свободу, хорошо заметные издалека. А может, она и сама расстегнула полушубок сверху, чтобы щегольнуть своим ожерельем из вечерних смарагдов [30]… Ярко-зелёные с золотистым блеском камни радовали глаз, но гораздо более привлекательным предметом восторга оказалась пышная «подушка» с ложбинкой, на которой они величаво покоились.
Одним словом, на горке было весело.
На реке тоже царило оживление: привязав к сапогам гладко обточенные и отпиленные по длине ноги кости домашней скотины, жители Кузнечного скользили на них по льду наперегонки. У кого не было коньков, тот катался просто на подошвах обуви: отличная гладкость льда позволяла и так получать свою долю забавы. Поглядев на безобразие, творившееся на горке (там как раз рассерженная Синица догоняла и хлестала варежками с хохотом убегавших от неё молодых работниц кузни), Млада сказала:
– Нет, лада, на горку мы не пойдём. А то, не ровен час, у тебя тоже что-нибудь расстегнётся…
– Да чему тут расстёгиваться-то, – смущённо пробормотала Дарёна, покосившись на расчехлённые роскошества Синицы, а потом – на свою грудь, едва видневшуюся под шубкой. Сравнение было явно не в пользу последней.
В этот миг мимо них пробежала одна из кошек-озорниц, преследуемая Синицей.
– На… На, получи! – выкрикивала запыхавшаяся супруга старосты, нахлёстывая спину своей «обидчицы» сжатыми в руке варежками.
– Синичка, уймись! – смеялась та в ответ. – Ну, подумаешь – потискали слегка… Ты сама виновата: зачем было рождаться такой красивой?..
Длинноногая женщина-кошка улепётывала быстро, а Синицу изрядно сковывали её же собственные достоинства, при беге выпрыгивавшие из полушубка и подскакивавшие едва ли не до подбородка. Тяжело и больно бегать с такими «довесками»!.. Отстав, старостиха, тем не менее, не отчаялась – скатала снежок и запустила вслед кошке. Бросок оказался меток: комок снега разбился о затылок шаловливой холостячки и посыпался ей за шиворот. Та взвыла по-кошачьи, приплясывая и дёргая плечами, а Синица, издав торжествующий клич, принялась катать новый карательно-метательный снаряд. Снежка с усмешкой переводила дух в салазках, предоставив жене самостоятельно учинять эту «расправу». К чему вмешиваться? У Синицы и так всё отлично получалось… до поры до времени. Молодые нахалки объединились против старостихи и закидали её снежками; когда один угодил в столь волновавшее их место, и Синица завизжала, отряхиваясь с выпученными глазами, довольнёхонькие холостячки белозубо загоготали. И было отчего: от хлопков руками грудь старостихи пружинила, как тугой, ядрёный холодец.
– Снежка, ну, сделай же что-нибудь! – крикнула Синица супруге.
Не вполне было ясно, чего она хотела: то ли чтобы Снежка помогла ей избавиться от набившегося под одежду снега, то ли чтобы проучила её противниц; староста же между тем сама покатывалась от хохота, откинувшись в салазках:
– Ох, мать, ну и сисястая же ты!.. У наших коров дойки и то меньше…
Хдыщ! Огромный снежок, со свистом пущенный гневной рукой Синицы, заткнул широко разинутый в хохоте рот старосты.
– Фиифа, фы ффо? – профырчала та, вытаращившись. («Синица, ты что?»)
Всё, что ей оставалось – это уносить ноги, отплёвываясь и увёртываясь от беспощадного снежного обстрела Синицы, чей гнев перекинулся с кошек-холостячек на собственную супругу. Грозная и неостановимая, Синица широко шагала, на ходу катая снежки и швыряя их в старосту.
– Мать, ну ты чего раздухарилась? Ну всё, уймись… – попыталась было та успокоить жену.
Зря она обернулась. Бац! Очередной ком снега расплющился о её лицо, осев горкой на носу и залепив глаза.
– Вот ведь меткая, зар-раза, – процедила Снежка, выковыривая снег из ноздрей и стряхивая с век.
Она припустила трусцой вдоль берега, а Синица вдруг остановилась, глядя на брошенные ею салазки. Какая-то мысль отразилась в её застывшем на миг взгляде, а уже в следующее мгновение она звонко, по-ребячьи свистнула и махнула рукой кошкам. Поправив руками грудь и потянув салазки за собою, она решительно направилась к горке, а приятно удивлённые холостячки припустили следом, восторженно обступив Синицу со всех сторон. Вскоре не успевшая далеко отбежать Снежка изумлённо наблюдала, как её супруга, с грудью наперевес, взгромоздилась на вершине горки на салазки, а холостячки тесно облепили её. Косы цвета тёмно-ржаного золота распустились и выбились из-под пёстрого платка Синицы, реявшего на ветру бахромой, как победный стяг, а всем своим сдобным телом старостиха жарко льнула к сильным, накачанным от тяжёлой работы в кузне телам кошек, великолепное сложение которых не скрывали, а только подчёркивали лёгкие нарядные кафтаны. Одной из холостячек не хватило места, и она съехала на ногах, уцепившись за кушак приятельницы.