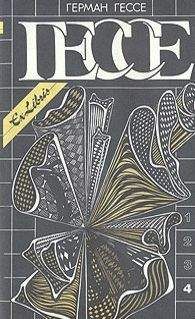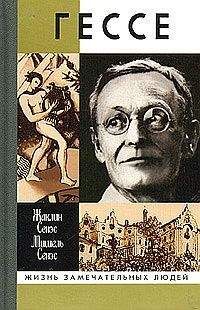Но Кнехт возражал:
– Позвольте, Досточтимый, как может мне не быть никакого дела? Речь идет о моей репутации, о моем добром имени, о памяти, какую я здесь по себе оставлю. Речь, тем самым, идет о возможности для меня работать вне Касталии, но для ее пользы. Я нахожусь у вас не для того, чтобы обелить себя, и тем более не для того, чтобы добиться одобрения моего поступка Коллегией. Я предвидел уже, что мои коллеги будут смотреть на меня как на личность сомнительную и своеобычную и готов с этим смириться. Но я не хочу, чтобы меня считали предателем или сумасшедшим, с таким приговором я согласиться не могу. Я совершил поступок, который вы не можете не осуждать, но я совершил его, ибо иначе не мог, ибо таково мое назначение, таков мой жребий, и я в него верю и добровольно буду его нести. Если вы этого не желаете признать, – значит, я потерпел поражение и весь наш разговоре вами ни к чему.
– Мы все время кружимся на одном месте, – ответил Александр. – Я должен, оказывается, признать, что при известных условиях воле отдельного человека дано право нарушать законы, в которые я верю и которые обязан защищать. Но не могу же я одновременно верить в наш порядок и признать за вами приватное право этот порядок нарушать, – не перебивайте меня, прошу вас. Я могу лишь согласиться с тем, что вы, по всей видимости, убеждены в смысле вашего опасного шага и в своем праве совершить его, что вы искренне видите в этом свое призвание. Вы, разумеется, не рассчитываете на одобрение мною вашего поступка. Но одного вы добились: я отказался от первоначальной мысли вернуть вас в лоно Ордена и склонить вас к отмене вашего решения. Я не возражаю против вашего выхода из Ордена и передам Коллегии заявление о вашем добровольном отказе от занимаемого поста. Больше я ничем не могу вам помочь, Иозеф Кнехт.
Магистр Игры жестом выразил свою покорность. Потом тихо вымолвил:
– Благодарю вас, господин предстоятель. Ларчик я вам уже вручил. Теперь я отдаю вам (для передачи Верховной Коллегии) мои записи о положении дел в Вальдцеле, прежде всего о репетиторах, а также о тех нескольких людях, кто, по моему разумению, наиболее подходит в качестве преемника на посту Магистра.
Он вытащил из кармана и положил несколько сложенных листков бумаги. Затем он встал, предстоятель тоже. Кнехт подошел к Александру и долго с грустным дружелюбием смотрел ему в глаза. Потом вежливо поклонился ему и сказал:
– Я хотел вас попросить дать мне на прощанье руку, но теперь вижу, что должен от этого отказаться. Вы всегда были мне особенно дороги, и сегодняшний день ничего в этом не изменил. Прощайте, дорогой и уважаемый Друг!
Александр молчал. Бледность покрыла его лицо; какой-то миг казалось, будто он хочет поднять руку и протянуть ее уходящему. Он почувствовал, что глаза его увлажнились; нагнув голову, он ответил на поклон Кнехта и отпустил его.
После того как ушедший затворил за собой дверь, Александр постоял еще некоторое время неподвижно, прислушиваясь к удалявшимся шагам, и когда они отзвучали и все смолкло, он с минуту походил по комнате, пересекая ее из конца в конец, пока снаружи опять не послышались шаги и кто-то тихонько не постучал в дверь. Вошел молодой прислужник и объявил, что какой-то посетитель желает говорить с Магистром.
– Скажи ему, что я смогу принять его через час и что я прошу его быть кратким, ибо меня ждут неотложные дела. Нет, погоди! Ступай в канцелярию и передай секретарю, пусть срочно созовет на послезавтра заседание Коллегии и сообщит всем ее членам, что присутствие их обязательно, и только тяжелая болезнь может извинить неявку. Кроме того, сходи к кастеляну и скажи, что завтра утром я должен ехать в Вальдцель, пусть распорядится к семи часам подать мне экипаж...
– Разрешите доложить, – заметил юноша, – господин Магистр мог бы воспользоваться экипажем Магистра Игры.
– Как так?
– Досточтимый прибыл вчера в экипаже. А только что он вышел из дому, сказав, что дальше пойдет пешком и оставляет экипаж здесь в распоряжении Коллегии.
– Хорошо. Тогда я поеду завтра в вальдцельском экипаже. Повторите, пожалуйста, мои распоряжения.
Прислужник повторил:
– Посетитель будет принят через час и ненадолго. Первый секретарь должен на послезавтра созвать заседание, присутствие всех обязательно, только тяжелая болезнь освобождает от явки. Завтра, в семь часов утра, – отъезд в Вальдцель в экипаже Магистра Игры.
Когда молодой человек вышел, Магистр Александр вздохнул и подошел к столу, за которым только что сидел с Кнехтом; в ушах его все еще звучали шаги этого непонятного человека, которого он любил больше, чем кого бы то ни было, и который причинил ему такую боль. Всегда, еще с тех пор, как Кнехт служил под его руководством, он любил этого человека, и среди других его качеств ему особенно нравилась его походка, твердая и ритмичная, и в то же время легкая, почти невесомая, колеблющаяся между важностью и детскостью, между повадкой жреца и повадкой танцора, своеобычно притягательная и аристократическая походка, отлично шедшая к лицу и голосу Кнехта. Не менее гармонировала она и с его специфической манерой нести сан касталийца и Магистра, с присущими ему властностью и веселостью, что напоминало порой благородную сдержанность его предшественника, Магистра Томаса, порой же простоту и сердечность старого Магистра музыки. Итак, он уже отбыл, поторопился, ушел пешком, бог весть куда, и скорее всего Александр никогда больше с ним не встретится, никогда не услышит его смех, не увидит, как его красивая рука с длинными пальцами чертит иероглифы Игры. Предстоятель взял лежавшие на столе исписанные листки и начал их читать. Это было краткое завещание, составленное в очень скупых выражениях, по-деловому, часто лишь наметки вместо фраз, и предназначены они были, чтобы облегчить руководству работу при предстоящей ревизии Селения Игры и при выборах нового Магистра. Красивым мелким почерком были записаны умные замечания, в словах и форме букв отражалась неповторимая, ни на кого непохожая личность Иозефа Кнехта не меньше, чем в его лице, голосе, походке. Нелегко будет Коллегии найти равного ему преемника: подлинные властители и подлинные характеры встречаются редко, и каждую личность надо рассматривать как подарок и счастливую случайность, даже здесь, в Касталии, в Провинции избранных.
Ходьба доставляла Иозефу Кнехту удовольствие, он уже много лет не странствовал пешком. Да, если вспомнить хорошенько, то, пожалуй, его последним пешим переходом был тот, что привел его в один прекрасный день из монастыря Мариафельс назад в Касталию, на ту ежегодную Игру в Вальдцеле, которая была столь омрачена смертью «сиятельства». Магистра Томаса фон дер Траве62, чьим преемником ему суждено было стать. Вообще, когда он обращался мыслью к тем далеким временам, особенно к студенческим годам и Бамбуковой роще, у него всегда было такое ощущение, будто он смотрит из холодной, голой каморки на просторный, озаренный солнцем пейзаж – как на нечто безвозвратное, сохранившееся только как радужное воспоминание; такие раздумья, даже если они и не будили печали, вызывали картины чего-то очень далекого, иного, таинственно-праздничного, столь непохожего на сегодняшние будни. Но нынче, в этот ясный, солнечный сентябрьский день, с его сочными красками вблизи и нежными, голубовато-фиолетовыми, переливчатыми оттенками дали, во время этой радостной прогулки и бездумного созерцания, ушедшее в прошлое странствие показалось ему отнюдь не недосягаемым раем, – нет, сегодняшняя прогулка походила на тогдашнюю, сегодняшний Иозеф Кнехт походил на тогдашнего, как родной брат, и все было опять ново, таинственно и столько обещало, словно минувшее могло вернуться и принести с собой еще много нового. Давно уже день и весь белый свет не казались ему такими легкими, прекрасными и невинными. Счастливое ощущение свободы и независимости опьяняло его как крепкое вино: давно он не испытывал этого ощущения, этой сладостной, восхитительной иллюзии! Он порылся в памяти и вспомнил час, когда это несравненное чувство впервые встретило преграду и его сковали будто цепями: это было во время разговора с Магистром Томасом, под его приветливо-ироническим взором. Кнехт вновь ощутил всю тягостность того часа, когда он потерял свою свободу: то не была реальная боль, жгучее страдание, – скорее робость, легкий предостерегающий озноб, сосание под ложечкой, изменение температуры, всего темпа жизни. Сейчас он был исцелен и вознагражден за мучительное, сковавшее его, сдавившее ему горло ощущение той роковой минуты.
Еще вчера на пути в Хирсланд Кнехт решил: что бы там ни случилось, он ни при каких обстоятельствах не будет раскаиваться в содеянном. На сегодня он запретил себе даже думать о подробностях своего разговора с Магистром Александром, о своей борьбе с ним и за него. Теперь он весь отдался чувству отдохновения и свободы, которое переполняло его, как переполняет оно земледельца, закончившего тяжелый трудовой день; в душе его был разлит покой, он знал, что свободен от всех обязанностей, что он никому в эту минуту не нужен, выключен из всего, не должен ни работать, ни думать; полный ярких красок день, обволакивавший его своим нежным сиянием, воплощал только этот миг, ничего не требуя, не зная ни прошлого, ни будущего. Порой Кнехт, довольный, напевал вполголоса одну из тех походных песенок, какие они некогда, еще будучи маленькими учениками элитарной школы в Эшгольце, распевали на три-четыре голоса во время прогулок, и из поры ясной зари его жизни выпархивали, словно щебечущие птицы, отголоски светлых воспоминаний и звуков.