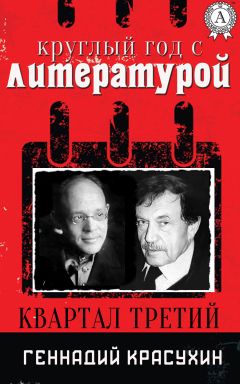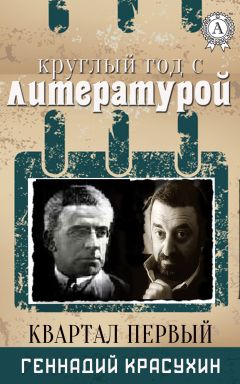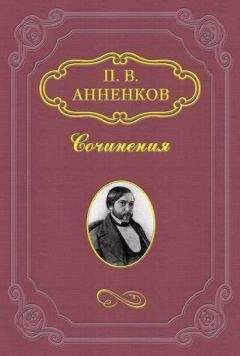В траурный контекст это стихотворение вписывается, как недостающий мазок в окончательно отделанную картину. А кроме этого, как неслучайно, что перед смертью Лидия Либединская читала именно стихотворение Александры Истогиной. Инвалид, чудесной доброй души человек, Александра Истогина умела поддерживать дух нуждающихся в этом людей. Вот и 85-летняя Лебединская попрощалась с жизнью, со всем, что ей было дорого, словно вошедшими в неё словами печального стихотворения Александры Истогиной.
Лидия Борисовна родилась 24 сентября 1921 года. Её девичья фамилия Толстая, и она имеет прямое отношение к Льву Николаевичу Толстому: Борис Дмитриевич Толстой – двоюродный племянник писателя.
Борис Дмитриевич сгинул в 1942 году в лагере под Красноярском, куда его запихнули карательные органы. Мать Лидии Борисовны, слава Богу, уцелела. Она была известной журналисткой, писательницей, выпускавшей книги под псевдонимом Вечёрка. За писателя Либединского Лидия Борисовна вышла замуж в 1942 году и тогда же опубликовала свои первые стихи.
В дальнейшем много занималась переводами поэтов народов СССР.
Я с ней и с ленинградским поэтом Вадимом Шефнером оказался на берегу реки Чегдомын в Хабаровском крае. Было это в июне 1978 года. Жара стояла удушающая. Мы, державшиеся втроём, с завистью смотрели на нескольких местных поэтов и поэтесс, которые с удовольствием купались. Остальные члены делегации (а в Хабаровском крае был выездной секретариат Союза писателей) ходили по берегу с сопровождающей нас женщиной председателем Чегдомынского горисполкома. Время от времени кто-нибудь из них подходил к реке и осторожно, как если бы это был кипяток, пробовал ногой воду. И немедленно её отдёргивал не из-за кипятка, а из-за ледяной воды. Под раскалённым солнцем её температура вряд ли поднималась до 5 градусов тепла. А как же местные? А они привыкли, и Лидия Борисовна рассказала, как несколько лет назад здесь же одна поэтесса, которую она переводила, нанайка, зазывала её в воду, а другая поэтесса из народности ульчи, которую Лидия Борисовна тоже переводила, очень тогда разозлилась на нанайку: «Она тебе столько добра делает, а ты хочешь, чтобы она умерла!».
Не скажу, что мы с тех пор подружились, но в отношениях были очень хороших. Она давала мне читать свою прозу. Мне очень нравилась её мемуарная книга «Зелёная лампа» и не очень понравилась её книга о Горьком. Правда, мне не нравился и сам Горький. Подозреваю, что свои антипатии в Буревестнику я перенёс на книгу о нём. Потому что позже прочитал книгу Лебединской об Огарёве «С того берега», и она мне понравилась.
Зятем Либединской был известный поэт Игорь Губерман, чьими «гариками» (сатирическими или юмористическими четверостишиями) зачитывались, а потом делились с друзьями. Игорь после отсидки в советском лагере уехал с семьёй в Израиль, и Лидия Борисовна часто к ним ездила. Появлялась в ЦДЛ и немедленно бывала окружена поклонниками Губермана: «Что нового она привезла?»
Умерла она, как я уже говорил, почти в 85 лет: 19 мая 2006 года. Всего на несколько месяцев пережила лучшую свою подругу Елену Матвеевну Николаевскую. Жизнерадостный человек, она явно затосковала, оставшись без Леночки. Тосковать было не в её стиле. Возможно, поэтому ей и не отпустили времени на оформление этого нового стиля.
Сталинскую премию Сергей Петрович Бородин, родившийся 25 сентября 1902 года, получил за роман «Дмитрий Донской», который я читал в детстве. Трилогию «Звёзды над Самаркандом» («Хромой Тимур», «Костры похода», «Молниеносный Баязет») я дочитать уже не смог. Не пошло. Слишком старательно вырисован орнамент под восточный стиль. Слишком плохо владеет автор умением передать психологические характеристики героев. Потом я узнал, что Бородин собирался писать не трилогию, а тетралогию. Начал ещё один роман – «Белый конь». Не успел написать. Умер 22 июня 1974 года.
А недавно из воспоминаний Александра Гладкова (его Дневник опубликовало в 2014 году издательство журнала «Нева) я узнал, что Бородин был негодяем. Имел отношение к аресту Мандельштама, приложил руку к травле Евгения Шварца во время войны.
Так что тем более расхотелось мне его читать.
* * *
Христиан Готлиб Гейне, родившийся 25 сентября 1729 года, родственником великого немецкого поэта не является. Он работал в библиотеке и переводил с древнегреческого, латыни и французского. В 1755-м вышел его перевод Катулла. Через год появилось издание Эпиктета. Но во время семилетней войны библиотека, где работал Гейне, была разрушена. И он остался без средств к существованию. А здесь ещё в 1760 году при артиллерийском обстреле Дрездена сгорело почти завершённое Гейне издание Лукиана.
В 1763 году Гейне удаётся устроиться профессором Гёттингенского университета. Он вызвал полемику среди учёных, заявив, что изучение древних языков необходимо лишь как средство понимания древнего мира. Гейне много трудился для разъяснения спорных вопросов в древней мифологии, археологии и истории. Издал «Илиаду» Гомера, сочинения Пиндара, Вергилия.
Был избран почётным членом Санкт-Петербургской Академии наук с 15 мая 1805 года. Умер 14 июля 1812 года.
* * *
Из Старой записной книжки П.Я. Вяземского:
«По занятии Москвы французами граф Мамонов перешёл в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные и кляузные сношения и переписка с местными властями по части постоя, перевозки нижних чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича). Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой». Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка мой. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше предоставляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках), вашим покорнейшим слугою». Граф Мамонов был человек далеко недюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчёту времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и с другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нём. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своею он несколько напоминал портреты Петра 1-го. По приезде в Москву императора Александра в 1812 году он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во всё продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на своё годовое содержание. Вместо того было предложено ему чрез графа Растопчина сформировать на свой счёт конный полк. Переведённый из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Всё это обратилось в беду ему. Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Ещё до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учинённых нижними чинами, полк был переформирован: мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль! Полк этот под именем Мамоновского должен был сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который одушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал своё воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генералу-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своём, в прекрасном поместье, селе Дубровицах Подольского уезда. В течение нескольких лет он не видал никого даже из прислуги своей. Всё для него потребное выставлялось в особой комнате; в неё передавал он и письменные свои приказания. В спальной его были развешены по стенам странные картины кабалистического, а частью соблазнительного, содержания. Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества. По управлению имением его оказались беспорядки и, притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил напоказ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесённого ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались начальству высшему на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека. Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая зачалась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые при самых благоприятных и лучших задатках и условиях как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах».