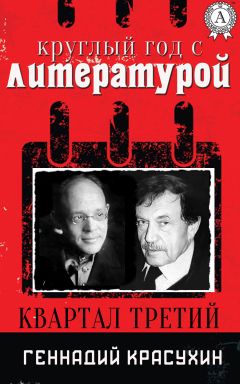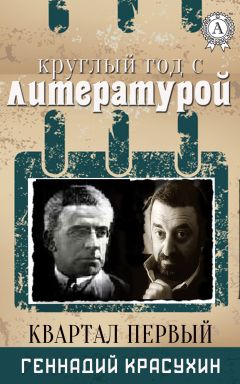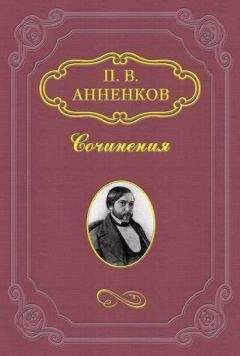Володю Глоцера я очень хорошо знал. Дружил с ним ещё с начала шестидесятых. Был он невероятно интересным человеком. Владимир Иосифович Глоцер, родившийся 27 июля 1931 года, служил литературным секретарём у Чуковского и Маршака. Хорошо, психологично судил о детском творчестве. Подарил мне прекрасную книгу «Дети пишут стихи».
Писал замечательные радиоинсценировки. Особенно нам с женой нравилась радиопередача о Хармсе, которая заканчивалась стихами этого незаурядного поэта о человеке, который вышел из дома:
И вот однажды на заре
Вошёл он в тёмный лес,
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
Здесь говорящий актёр выдерживал паузу и неуверенно, явно скрывая в голосе тревогу, продолжал:
Но если как-нибудь его
Случиться встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.
Время на дворе стояло уже брежневское. О сталинских репрессиях почти не упоминали. И мы оценили этот замечательный приём автора радиоинсценировки, сообщавшего своим слушателям о трагической судьбе Хармса.
Потом Володя занялся исследованием и публикацией обэриутов – Хармса, Введенского, Олейникова профессионально. Записал и опубликовал рассказ близкой подруги Хармса художницы Алисы Порет. Нашёл в Венесуэле вдову Хармса и записал её воспоминания «Мой муж Даниил Хармс».
Но вот я подхожу к эпизоду, который связан с нашей общей знакомой Маэлью Исаевной Фейнберг, вдовой знаменитого пушкиниста Ильи Львовича.
Я некогда написал рецензию на книгу Ильи Львовича, и Маэль Исаевна позвала меня к себе. Мы подружились. А через некоторое время она оказалась редактором моей книги в «Советском писателе», где она подрабатывала внештатно. Мы сблизились ещё теснее. Она познакомила меня с приятелем её трагически погибшего сына Сани. Это был известный ныне литературовед Игорь Шайтанов. Мы с женой подружились и с ним, и с его женой Олей. Маэль Исаевна называла их близкими, необходимыми ей людьми.
А потом прошло некоторое время. И бурное поначалу наше знакомство с Маэлью Исаевной стало затухать. Оно не исчезло. Но переговаривались мы в основном по телефону и намного реже, чем прежде.
И однажды на моём столе раздался звонок. «Гена, – сказал мне Володя Глоцер, – Маэль Исаевна умерла».
После похорон выяснилось, что Маэль Исаевна оставила ему квартиру.
В принципе это было справедливо и понятно: Маэль Исаевна тяжело болела полгода, и всё это время Володя жил у неё, был её сиделкой. Но Шайтанов объяснил мне, что квартира Глоцеру завещана не по этой причине.
– Маэль предлагала оформить завещание на меня, – сказал Шайтанов. – Но с тем, чтобы я продал квартиру и на вырученные от продажи деньги издал полное собрание Ильи Львовича. А ты же видел, как копалась она в рукописях Фейнберга, выуживала законченные тексты. Текстология не моё дело, да и чужой почерк мне разбирать трудно. И я отказался. Тогда Маэль и обратилась к Глоцеру.
– Но он же не продал квартиру, – удивился я. – Нарушил волю покойной?
– Выходит, что нарушил, – согласился Шайтанов.
Глоцера я встретил года через два после этого разговора.
– Как же вы могли, Володя, не посчитаться с волей Маэли Исаевны? – спросил я.
– То есть, как не посчитался, – удивился Володя, – я оплатил похороны, поминки. Вы ведь были и там и там, видели, что всё проходило очень достойно.
– Да, но Маэль Исаевна завещала вам квартиру с тем, чтобы вы её продали и на эти деньги издали полное собрание Ильи Львовича!
– Первый раз об этом слышу, – ещё больше удивился Глоцер. – Кто вам сказал о таком завещании?
– Шайтанов, – сказал я.
– Я так и подумал, – сказал Володя. – Как он облизывался на эту квартиру. Но она ему не досталась.
– Так что, – недоумённо спросил я. – Не выставляла Маэль Исаевна такого условия?
– Гена, – укоризненно сказал Глоцер, – вы меня знаете много лет и не считаете подлецом, правда?
– Чтобы оформить эту квартиру, мне пришлось влезть в немалые долги, – добавил Володя. – Но знал бы, что про меня будут распускать такие слухи, я не стал бы заниматься ею с самого начала. Кстати, я и сам спрашивал Маэль, не хочет ли она оставить квартиру Шайтанову с женой? «Нет!» – резко отвечала Маэль.
– А что ты хочешь, чтобы он тебе сказал? – спросил Шайтанов о Глоцере, узнав от меня об этом разговоре.
Вообще Маэль Исаевна была не постоянна в своих привязанностях. Одно время у неё жили бывшие киевлянки: вдова литературного критика Евгения Адельгейма с дочерью. Маэль Исаевна относилась к ним как к родственникам. Жила их интересами, которые не помню, в чём заключались. То ли гости добивались постоянного местожительства в Москве, то ли речь шла об итоговой книге Адельгейма, которая вобрала бы в себя его прежние работы о Маяковском, о Миколе Бажане. Так или иначе, но вдова часто бывала в Совете по украинской литературе Союза писателей. Её рассказы о тамошних чиновниках смешили Маэль, которая делилась ими по телефону с друзьями. Со мною, в частности.
И вдруг киевлянки исчезли. Куда? Маэль Исаевна недоумённо пожала плечами: «Не интересовалась». Выспрашивать подробности мне было неудобно. Позже Ира написала мне, что рассорились они из-за Ежи Кухарского, родившегося в России в семье польских коммунистов, репрессированных в конце тридцатых. Прекрасно знавший польский и французский, тонко чувствовавший музыку, он перевёл на русский письма Шопена. Перевёл (для себя, не для печати) Сартра и Дос-Пасоса. «Ему хотелось, – написала Ира, – чтобы мама посмотрела какие-то его тексты, он начал ей звонить, они несколько раз поговорили, а Маэли Исаевне категорически не понравилось, что её друзья общаются «за её спиной». Вот такая была неожиданная реакция».
В доме Маэли никогда больше не вспоминали о дочери Адельгейма и о её матери.
Могла ли Маэль Исаевна вот так же выкинуть из сердца Шайтанова и его жену, о чём говорил Глоцер? Могла, конечно. Не верить Володе я был не в праве: я его во лжи никогда не уличал. А Шайтанову, с которым мы тогда крепко дружили? И Шайтанов до сих пор меня не обманывал. Но – подчёркиваю – до сих пор!
Рассказал я это, чтобы снять тень недоверия к Глоцеру, которая могла у кого-нибудь из наших знакомых возникнуть. Он был порядочным человеком. Да и в квартиру Маэли так и не переехал. Приезжал в неё несколько раз на моей памяти. Умер 19 апреля 2009 года.
* * *
27 июля – день памяти Лермонтова. Он был убит 27 июля 1841 года. А родился 15 октября 1814 года – 200 лет назад.
Ну что о нём сказать: великий он и есть великий. Приведу почти не известный отзыв Толстого: «Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий».
Прекрасный исчерпывающий образ юноши-гения!
* * *
А 27 июля 1873 года скончался ещё один великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев.
В небольшой календарной заметке много о нём не скажешь. И, стало быть, многие его черты не отметишь. Укажу на парадоксальную: сам Тютчев не придавал почти никакого значения своим рифмованным сочинениям. Ценил у себя только стихотворные политические отклики, которые печатал охотно.
Некоторые стихи его и сейчас печатаются с теми вымарками, которые в своё время сделала цензура. Когда позже обратились к Тютчеву с предложением восстановить цензурные купюры, он это сделать не смог: рукописи у него не было. А наизусть он собственных стихов не запоминал.
Первая его книжка была составлена из стихов, которые всякими правдами и неправдами добывали Тургенев и тютчевский зять Сушков. Наконец, они передали вёрстку книги Тютчеву с просьбой её прочесть к такому-то числу. Время подошло, и Тютчев вернул вёрстку неразрезанной: то есть он даже не заглянул в неё. Практически та же история произошла и со второй прижизненной книгой Тютчева. Его стихи редактировал другой зять Тютчева Иван Аксаков. А Тютчев словно не замечал исправлений, порой весьма существенных. Так многие его стихи и остались в чужой редактуре.
Известен анекдотический случай, когда на важном правительственном заседании Тютчев отключился, что-то быстро записал на листке бумаги. А, уходя, забыл этот листок. Его прихватил коллега Тютчева Капнист, впоследствии обнародовавший листок. Это оказались известнейшие, гениальные стихи:
Как ни тяжёл последний час -
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, -
Но для души ещё страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья…
Не правда ли, странное отношение к своим стихам? Кого из поэтов мы в этом отношении поставим рядом с Тютчевым? Некого. Хлебников, по рассказам друзей, мог терять свои стихи. Но он обладал феноменальной памятью: он их всех помнил. Эма Коржавин носил свои стихи в наволочке. И если б не его друг, многих ранних стихов Коржавина мы бы сейчас не прочитали. Но позже Коржавин стал более ответственно относиться к своему творчеству.