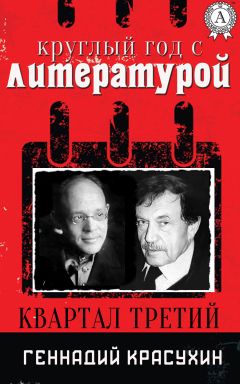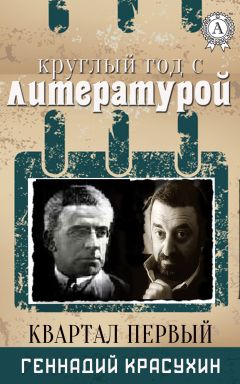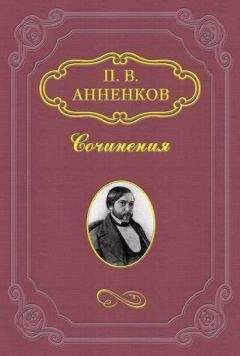Казалось, что он верил в это и сам. Во всяком случае, после присуждения ему ленинской премии позвал всех в свой просторный кабинет, где был накрыт огромный стол. Остановил секретаря партбюро Олега Николаевича Прудкова, когда тот стал распространяться об огромных писательских заслугах Чаковского: «Олег Николаевич, не надо преувеличивать. Я не Лев Толстой и даже не Константин Симонов!». И снова предложил выпить за своих друзей – коллектив газеты, который столько лет терпит своего главного редактора, смиряется с его длительными творческими отпусками. «Но здесь мне невероятно повезло с моим первым заместителем Виталием Александровичем Сырокомским, – сказал Чаковский. – Я ему доверяю абсолютно. Да и как я мог бы ему не доверять? Ведь за ним я как за каменной стеной!»
Однако когда сняли в одночасье Сырокомского, Александр Борисович заступаться за него не стал. Может быть, понимал, что это бесполезно? Сравнивал собственные возможности с силами недругов своего бывшего первого заместителя и видел, что они могущественнее? Но многих, в том числе и меня, покоробило, что он публично не простился с Виталием Александровичем. Отрубил, как рассказывал мне позже сам Сырокомский, все связи с ним. Впрочем, то же самое сделали и все заместители главного редактора.
Снят он был совершенно неожиданно для нас. Дело в том, что в 1986 году прошёл XXVII партийный съезд, который перевёл Александра Борисовича из кандидатов в члены ЦК КПСС. Ничто поэтому не предвещало, что уже через полтора года он будет освобождён от главного своего поста – редактора «Литературной газеты». Тем не менее это произошло. В то время события развивались далеко не по привычной, накатанной колее. В ЦК ликвидировали Отдел культуры. А его заведующего – Юрия Петровича Воронова было решено направить главным редактором «Литературной газеты». И партийный человек Александр Борисович Чаковский подчинился партийному решению. Умер 17 февраля 1994 года.
* * *
День памяти Георгия Иванова Он умер в эмиграции 26 августа 1958 года (родился 11 ноября 1894-го). Иные его стихи завораживают. Собственно, поэтом он стал именно в эмиграции. И если «Над розовым морем вставала луна» прославлены благодаря поющему эти стихи А.Н. Вертинскому, то вот эти – чудесны и сами по себе:
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны -
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…
Не правда ли, прекрасные эти стихи, где Иванов через много лет как бы по-новому вглядывается в лица царственных мучеников, словно образуют единый контекст с песней Вертинского? «О как это было давно», – пел Вертинский, перекликаясь с этими строчками, заставляя перекличкой обратить внимание на «печальные лица», вырисовывающиеся в далёком прошлом: «И как это было давно», когда, быть может, и лица-то печальными не казались. «Давно» – до трагедии, которая их преобразила, сделала «прекрасными».
Путешествие по времени по существу было главной темой Георгия Владимировича Иванова. Той темой, которую он великолепно освоил с самого начала:
Настанут холода,
Осыпятся листы -
И будет льдом – вода.
Любовь моя, а ты?
И белый, белый снег
Покроет гладь ручья
И мир лишится нег…
А ты, любовь моя?
Но с милою весной
Снега растают вновь.
Вернутся свет и зной -
А ты, моя любовь?
Елизавета Александровна Дьяконова, родившаяся 27 августа 1874 года, думаю, сейчас известна немногим. А жаль. Её «Дневник русской женщины» В.В. Розанов назвал «одной из самых свежих русских книг конца XIX в.». Дневник не только фиксирует внутреннюю жизнь автора, но и даёт представление о жизни молодёжи, студенчества в конце позапрошлого века.
Среди записей попадаются и такие, посвящённые литературным событиям:
«Читаю теперь Надсона. Модный поэт, его любит, кажется, вся молодёжь; начитавшись критических этюдов Буренина, я смотрю на него с предубеждением. В сущности, Надсон не повинен в своей славе, раздутой десятками его поклонниц из маленького огонька в большой костёр, и, так как вся его жизнь сложилась неудачно, – он был бы без неё несчастлив: получив плохое образование, он не знал корифеев иностранной литературы, был болен, беден, не особенно развит умственно – и среди всех этих несчастий ему протянула руку фортуна, он стал знаменитостью. Его смерть оплакивали тысячи, и долго, может быть, в глухих захолустьях России будут увлекаться таким поэтом. Надсон – калиф на час; час его пока ещё не пробил, конец, может быть, ещё не близок, но время сделает своё дело. […] Мастерски написанное одно стихотворение Полонского – «На смерть Надсона» – лучше всей поэзии поэта; читая это произведение одного из Мафусаилов современной русской поэзии, чувствуешь не рифмованное нытьё, а глубокое сожаление старца о даровитом юноше».
Или:
«Я помню, когда читала «Анну Каренину», то зачитывалась ей до того, что всё забывала: мне казалось, что я не существую, а вместо меня живут все герои романа. Такое же ощущение испытывала я, читая «Крейцерову сонату», она притягивала меня к себе, как магнит. Это чисто физическое ощущение. «Крейцерова соната» не только не произвела на меня «ужасного» впечатления, а наоборот: я и прежде любила произведения Толстого, теперь же готова преклоняться пред ними. Многие писатели описывали и семейную жизнь и стремились дать образец народной драмы – и никто из тысячи писателей не создал ничего подобного «Крейцеровой сонате» и «Власти тьмы». Я жалею, что моё перо не может ясно выражать моих мыслей. Я могу сказать, но не написать; говорить легче… Пока жив Толстой, пока он пишет, – нельзя говорить, что наша литература находится в упадке: Толстой сам составляет литературу. Теперь то и дело раздаются сожаления: талантов нет, посредственностей много, ничего хорошего не пишут. Ну и пусть талантов нет и посредственностей много: гений один стоит всех талантов и посредственностей. Оттого-то они и редки. В нашей литературе в один век явилось три гения; явится ли столько же в будущем столетии? – Навряд ли. – Так имеем ли мы право жаловаться? – Нет, нет и нет… Может быть (!), я буду иметь случай прочесть «Исповедь» Толстого. Вот бы хорошо».
Дьяконова не расшировывает, какие, по её мнению, три гения явились в XIX веке. Что же до «Исповеди» Толстого, то она распространялась в списках до 1906 года, когда был снят цензурный запрет на эту вещь.
Словом, я к тому, что можно остаться в литературе и своим «Дневником», как Елизавета Дьяконова, скончавшаяся 11 августа 1902 года.
* * *
Цезарь Самойлович Солодарь, родившийся 27 августа 1909 года, был в советское время очень известным фельетонистом и публицистом.
Это был любимый автор софроновского «Огонька», где почти в каждом номере в шестидесятых-семидесятых годах печатались так называемые антисионистские (читай: антисемитские) материалы. Самое забавное было в том, что автором большинства этих материалов был еврей Цезарь Самойлович Солодарь.
Он владел многими жанрами. Писал сатирические очерки, статьи, рассказы, пьесы, спектакли, сценические постановки. И его, так сказать, сатирическое жало было направлено на неблагодарных евреев, так или иначе стремящихся улизнуть на историческую родину.
Когда при Брежневе был создан официальный Антисионистский комитет советской общественности, Цезарь Солодарь стал одним из активнейших его членов.
Помните трагедию Мюнхенской Олимпиады – убийство арабскими террористами 9 израильских спортсменов. Весь мир был в ужасе. Но только не Цезарь Солодарь. Ссылаясь на болгарскую газету, которая напечатала письмо в чрезвычайно антисемитском духе, – дескать, люди погибли из-за нежелания правительства Израиля освободить товарищей арабов, захвативших спортсменов, он писал: «Присланное в болгарскую газету «Вечерни новини» письмо потрясает доказательствами чудовищно провокационной роли, которую сыграло израильское правительство в финале разыгравшейся на мюнхенской Олимпиаде кровавой трагедии… Тель-авивские правители не очень-то, мягко говоря, дорожили жизнью израильских спортсменов… Голда Меир отказалась не только освободить двести пленных палестинцев, но вообще вести какие бы то ни было переговоры об условиях спасения девяти человеческих жизней.
…Прав автор письма в Софию, утверждая, что «правда, в конце концов, обязательно всплывёт на поверхность». Непременно всплывёт, какой бы чудовищной и бесчеловечной она, как это можно сейчас предполагать, ни оказалась!»