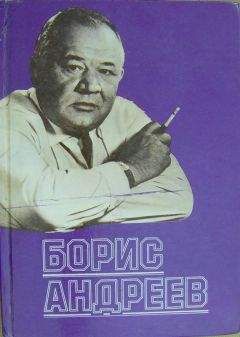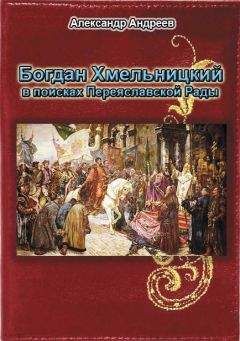Что мне было делать? Как утешить этот океан? И нужны ли были ему мои утешения?
Наивно попробовал свести разговор к любимым ролям, а в ответ-то и получил:
— Нет у меня любимых ролей, нет! — Откуда! Все нелюбимые!
Что это? Парадокс? А может быть, жестокое откровение?
И тогда не разгадка ли это мятущейся души?..
— Все спят, — пожаловался он, — разбежались по норкам, притаились!.. А радость-то и смысл, господа, в другом… в самораскрытии, в бесшумном и величественном парении души… в постижении пространства и времени, в постижении себя, козявки, в этом пространстве и в этом времени, и себя — человека, человека! Эх! Я часто думаю: кто я, откуда такой кипяченый?.. Наверное, от тех волжских громыхал и задир… Ох, чую я в себе, Костька, дрожжи бунтарей этих, бродят они во мне, Костька!.. И ты не смейся, я, братец ты мой, — вся Россия, вся земля наша советская, ей-ей, меня не повернешь, не своротишь, я сам кого угодно сворочу, есть еще сила, да! Я, брат, всей шкурой своей землю нашу ощущаю. Какая-нибудь дальняя деревенька, а и ей место на мне обозначено, приложишь ухо и обязательно почуешь: тикает, живет деревенька! Вот здесь, в башке моей, заводы, фабрики трудятся, на груди моей трактора стараются, пашут… Нога, скажем, — периферия, а и там какой-то заводишко-хлопотун нужное производит. Так-то вот, Костька, смекай мою аллегорию. Ты понимаешь, брат, про что я?..
Я закивал согласно.
— Врешь поди, что понимаешь! Меня, брат, все реже понимают. Вот и они, драмоделы эти, хитрованы и фарисеи, вроде Мики, хотели приручить меня, приспособить, как некое экзотическое типажное сооружение, эмблему. А ведь я не так прост, как думают некоторые. Я мыслю, черт возьми, я ученик Сенеки, да! И я докажу это!..
«Почему же — Сенеки?» — думал я смятенно, растревоженный и выбитый навалившимся на меня признанием.
— Лакировщики, клепальщики, лудильщики… Андреев не знак, не эмблема!.. Однажды во мне заговорит Сенека! И они рухнут. И Мика. Хе-хе, М-Мика!.. Я долгожитель, я дуб, мои корни — в истории земли, а кроны уходят в небо! Во мне Россия гудит' А они? Кто? Потому и страшит меня будущее, что не знаю я. кто они и надолго ли они, хитрованы и фарисеи!
И уже ко мне:
— Послушай, а ты-то сам кто такой? Чем живешь? Нужна ясность, открытость!.. Где ваши позиции? С кем вы? Эх!.. — Он махнул рукой и жалобно попросил: — Послушай, дай закурить! А?..
— У меня нет, Борис Федорович.
— Будь другом, найди!
— Где же найдешь? Все спят…
— Да найди же, найди! Я тебе приказываю! — закричал он на меня, но тут же смягчился, объяснил: — А вообще обижаться на меня не смей! На меня нельзя обижаться, слышишь?!
Стучать в каюты было неловко — я поскребся к одному знакомому, к другому. Все спали или не хотели открывать,
Я вышел на палубу. Море по-прежнему было неспокойно. Выручил меня вахтенный матрос. Он отсыпал мне несколько сигарет. Потом появился и сам Борис Федорович.
Глядя на море, заметил тоскливо:
— Что там, а? Там, за этим мраком?.. Страшно, а?.. Эх, Костька, вырежут наши с тобой сцены, вырежут и бросят к медузам. Не работаем мы с тобой на сюжет, кончено, брат! Но Мика, Мика…
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ.
БЕРЕГ. БАЗАР. РАЧКИ.
СТИХИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
РАБЛЕЗИАНСТВО.
БЕРЕГ, ТВЕРДЬ, ЯЛТА…
Борис Федорович мирно глядит с палубы на ослепительно расфранченную Ялту. Я приглашаю его прогуляться по набережной. Он отвечает неохотно:
— В Ялту я не пойду… Я здесь одного нечаянно с крыши сбросил.
— Цел остался?
— Цел. У меня рука тяжелая, но и легкая.
Зато, придя в Одессу, отправляемся на знаменитый одесский рынок. Небо пасмурно, и на случай дождя я надеваю плащ.
— Косточка, — спрашивает меня Борис Федорович, настроенный благодушно, — зачем ты надел плащ?
— А вдруг дождь?
— А вдруг метеорит? — Так что ж, и ходить в каске?.. Хе-хе!.. Хм!.. Пет!..
И вот пестрый и живописный духовитый одесский рынок наваливается на нас. Ходить по базару, расспрашивать, пробовать — любимейшее занятие Бориса Федоровича. Он проплывает, покачиваясь меж рядов, как знатное торговое судно. Его узнают, его угощают.
«…Сквозь зазывания старух,
Сквозь шорох сельдереев,
Сквозь терпкий и укропный дух
Базаром шел Андреев…».
Ему охотно прощали шутки над товаром, в то время как другому никогда не простили бы этих шуток.
— Ваш мед, мамаша, я беру, — великодушно объявляет он одной торговке, аппетитно снимая пробу указательным пальцем. — Он мне нравится. Он очень похож на манную кашу.
— Скажи, любезный, — обращается он к одному грузину, — сколько нужно съесть лаврового листа, чтобы на голове вырос лавровый венок?
— Сколько скушаешь, дорогой, — не сморгнув отвечает обитатель гор.
Дух стоит над базаром пряный, ядреный. Проходим к рыбному ряду.
— Сколько стоит эта ехидна? — спрашивает он, тыча пальцем в висящую на крюке похожую на модную дамскую сумку камбалу.
Потом смотрит по сторонам и громко, словно его обокрали:
— Позвольте, а где же рачки? Знаменитые одесские рачки?
— Может быть, рачки? — уточняю я.
— Да нет, по-нашему, конечно, рачки, а по-одесски — рачки! И не спорь, Костька!
— Ах, креветки! — осеняет меня. — Ну, так бы и сказали!
— Не креветки! — сердится он. — А рачки, рачки, мой друг!
И правда, что-то не видать знаменитых одесских рачек.
«…Вздохнул, испробовал медок,
Купил халвы три пачки.
И вдруг протяжно, как гудок:
— А где же, братцы, рачки?!»
— Мамаша, куда девались рачки? — спрашивает он у бабки, торгующей таранью.
Бабка смущенно пожимает плечами.
— Господа, где рачки?! — уже почти с отчаянием вопрошает Андреев у всего базара. — Какой срам, исчезли одесские рачки!
Упреки Андреева базар воспринимает как справедливые. Базар прячет глаза, базару стыдно.
«…Примолк пристыженный базар:
Нигде не видно рачек.
«Одесса, прячь свои глаза!»
Глаза Одесса прячет».
И вот, когда уже все надежды обнаружить рачков были потеряны, когда весь базар уже готов был сгореть от стыда, из-за стоявшего на отшибе киоска чей-то голосок задавлено пропищал:
— А кто желает рачки, кто?
«…Табак, видать, твои дела!
— Кончай, отец, подначки!
И вдруг, как писк, из-за угла:
— А кто желает рачки?»
Голос этот принадлежал маленькой носатой старушке. На старушке была затрапезная шляпа с каким-то тряпичным фруктовым натюрмортом на полях. И сама она была вся скрюченная, точь-в-точь как креветка.
— Я, я желаю рачки, мамаша! — загремел Борис Федорович и чуть было не задушил старушку в своих объятиях. — Отсыпь, мамаша, отмерь со всей присущей тебе щедростью! Осчастливь!
Я осмотрелся по сторонам: весь базар, осклабившись, благодарно смотрел на старушку. Спасибо, спасибо, тетя Соня, выручила, поддержала Одессу!
«…Вздохнул, осклабился базар,
Вздохнула рыба, птица,
Вздохнула старая коза
(По паспорту девица).
Затараторили ряды:
«Спасибо тете Соне!
Она спасла нас от беды!
Поклон ее персоне!»
— Прости, Одесса, виноват!
Как говорят, «пробачте!»
Все ж убедиться был я рад,
Что не исчезли рачки!»
И если до этого момента все делали вид, что не узнают Андреева, то теперь уже отовсюду и наперебой шумели: дескать, узнали, узнали знаменитого артиста, кушайте, товарищ Андреев, рачки у тети Сони!
— Товарищ Андреев!
— Я не товарищ Андреев, я купец Грызлов!
— Чтоб я так жил, Саша с Уралмаша!
— Товарищ Андреев, вы?
— Я! — басит он спокойно, без тени самодовольства.
— Ох, сердце подсказало, шо вы! Ну прямо копия вы!
Нагруженные рачками, таранью, медом, халвой, помидорами, грушами, мы идем мимо лавок, где выставлена трикотажная и ситцевая одежда в соседстве со всякой мелочью, вплоть до булавок и дешевых запонок.
— Эх, Костька, — вздыхает Андреев, — купить бы нам сейчас с тобой по паре великолепно-небесных штанов да и податься куда глаза глядят. Дойдем до Индии, примкнем к йогам, а? На сюжет мы с тобой все равно так или иначе не работаем… В самый, стало быть, раз в Индию чесануть.
Заинтересовавшись вывешенными на палке, яко хоругвь, трусами, спрашивает:
— А на меня есть что-нибудь?.. Нет? Все на него? (Кивает на меня.) Безобразие! Вся промышленность работает на худых! Впрочем, оно и правильно. Худые показали себя в войне, и я думаю, не раз еще покажут себя худые. Как ты считаешь, Костька?
Я стою, навьюченный покупками, сгибаясь под их тяжестью, и согласно, по-верблюжьи киваю.