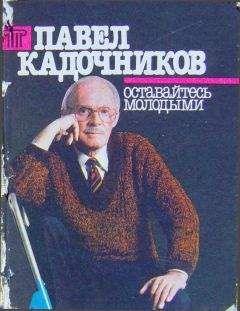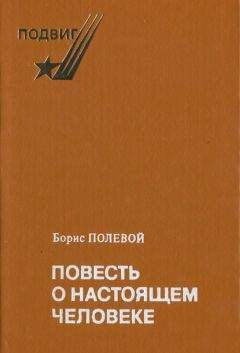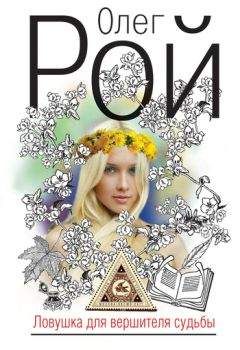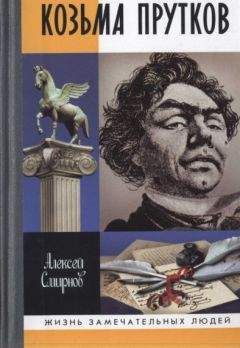— А ты б порылась на кухне, — говорю. — Да за окном вон какие продукты лежат.
— Да как же я в чужой-то квартире без спросу рыться буду? Голова вон инеем тронулась, а говоришь, кабыть не рядом все! Да кто ж так делает? Да, може, я — плохая! Отколь тебе знать, хозяин? Да, може, я у тебя все украду!
— У меня красть нечего. Да если б и было что, так вот ты как раз и не украдешь! По тебе видно, — громко расхохотался я.
— Гли-ко, он еще и хохочет! — возмущенно всплеснула руками Дуся.
— Ну, ладно… вытирай пос. Давай рыбу чистить, будем питаться.
Этот случай из его жизни я узнал, когда мы работали над картиной «Подвиг разведчика». Встречались тогда мы часто. Почти ежедневно. И очень подружились. Съемки были нелегкими. Работа шла напряженно. Но когда выпадали часы отдыха, проводили их вместе. Именно в эти часы Барнет раскрывался с самой неожиданной стороны.
Помню, в выходной день отправляемся вместе на заливные луга под Кневом. Весна уже завладела миром. Но проклятые комары буквально жрут наши обнаженные шеи, руки, нахально лезут в нос, глаза.
Борис Васильевич то и дело с львиным рычанием шлепает себя мощной ладонью по физиономии. Скребет вспухшие руки, на секунду зажав спиннинг между колен. Затем снова и снова швыряет блесну в разные стороны.
— Хорошо ему! — кивает он на сидящего на берегу человека в накомарнике с удочкой.
— Конечно, хорошо, — соглашаюсь, отчаянно шлепая себя по шее.
— А ты знаешь, как должен ходить офицер?
— Какой офицер?
— Генрих Эккерт, которого ты играешь.
— Как?
Борис Васильевич тут же пытается изобразить походку Эккерта. Лодка качнулась, и Барнет, потеряв равновесие, едва не шлепается за борт.
— Ну, ладно, не здесь. Выйдем на берег — покажу. Офицеры фашистской муштровки ходят след в след. Понял?
— Понял, Ньютон.
— Почему Ньютон?
— Когда Ньютона спросили, как им был открыт закон всемирного тяготения, он ответил: «Представьте себе, я всю жизнь только об этом и думал».
Борис Васильевич, со свистом махнув спиннингом, смеется и добродушно говорит:
— Подхалим.
— Диду, а диду! — кричит с берега человек в накомарнике.
Не понимаю, к кому он обращается.
— Да ты оглох, что ли? — возмущается тот же человек.
— Кому это он кричит? — спрашивает Борис Васильевич.
— Не знаю. По-моему, не нам.
— Диду-у-у… — снова доносится до нас с берега.
— Ты кому кричишь? — рявкает Барнет.
— Тебе, тебе! У тебя спичек нэма?
Барнет выругивается про себя, как-то сразу грустнеет и, вижу, начинает сматывать леску. Еще раз шлепнув себя по шее, он говорит:
— К чер-р-рту! Поехали домой, Ньютона комары зажрали.
А спустя несколько дней, показывая, как должен ходить Генрих Эккерт, офицер фашистской армии, без всякой связи с предыдущим текстом киносценария, Борис Васильевич вдруг говорит:
— Ты понимаешь, Пауль? Первый раз в жизни меня назвали дедом!
Понимаю, как больно ранил тогда рыбак в накомарнике здорового, сильного человека, физически не ощущавшего течения времени…
Работал Барнет много. Не считался со временем, усталостью. Увлекался работой он до такой степени, что наша группа ассоциировалась у меня с каким-то воинским подразделением, которое каждый день ходило в атаку или штурмовало бастион. И когда кто-нибудь жаловался на усталость, он говорил:
— Усталого всегда бьют!
— Отсталого, а не усталого, — однажды возразил я.
— Ну да, сначала устанешь, а потом отстанешь, вот тут-то тебе и дадут по шее. Пошли, пошли репетировать.
На съемочную площадку Борис Васильевич не позволял себе выходить с неготовой, неотрепетированной до мельчайших подробностей сценой.
Трудно сказать, что он любил больше — момент фиксации отрепетированного или саму репетицию — радость рождения «правдоподобия чувствований» или работу за монтажным столом. Во всяком случае, репетиционный процесс работы обставлялся самым серьезнейшим образом. Упаси бог, если кто-то нарушит этот благоговейный момент. Тут могла взорваться бомба неудержимого темперамента Барнета.
Вспоминается случай, когда мы репетировали ночную сцену прихода предателя Медведева к Генриху Эккерту со списком скрывающихся «неблагонадежных» граждан.
Тихо раздвигается портьера, и в кабинет Эккерта «вползает» расплывшаяся фигура Медведева. Кашлянув в кулак и пошуршав списком, чтобы привлечь внимание сидящего за столом Эккерта, углубленного в чтение бумаг, Медведев сипло и вкрадчиво произносит:
— Чрезвычайную мягкость к населению могу объяснить только незнанием местных условий…
Эту фразу Медведев не договаривает. Над нашими головами, где-то на крыше павильона, раздается угрожающий грохот. Все вскакивают со своих мест. Репетиция прерывается. Лицо Бориса Васильевича искажается недовольной гримасой.
Во всю силу своих могучих легких он рявкает:
— Марьян Осипович! Мина! Немедленно найдите этого негодяя и дайте ему взбучку!
Через некоторое время на крыше слышится какая-то возня, звук прогибающегося под ногами пола и робкий приглушенный голос ассистента Миши:
— Борис Васильевич, это… ветер.
— Все равно догони его и дай по шее!
— Сейчас! — отвечает Миша.
В павильоне раздается дружный хохот. Конечно, вместе со всеми смеется и Барнет. Настроение исправляется. Репетиция продолжается.
Еще на кинопробе обращаю внимание на дружеские отношения в коллективе.
— А ну, братцы «ослепители», шевелитесь побыстрее! — торопит Барнет. — Нам ведь дали сегодня полсмены. Да еще и в чужой декорации…
Смотрю, светотехники не обижаются на его шутки. Более того, все работают дружно, с желанием помочь. Понимают, что за эти полсмены Барнет должен снять не одну актерскую пробу, а несколько.
Для меня до сих пор остается загадкой сам факт приглашения автора этих строк на роль мужественного разведчика. Тем более что среди множества претендентов на эту роль был и замечательный артист Добронравов. Не мог же я сыграть лучше, чем он! Ведь до этой роли я играл совсем других людей.
«Возможно, «Робинзон Крузо», первый отечественный стереоскопический художественный фильм в постановке А. Н. Андриевского подсказал Барнету мысль о некоторых моих способностях к перевоплощению? — размышлял я. — Ведь роль разведчика соединяла в себе две роли — майора Федотова и Генриха Эккерта».
Ясно для меня было одно, что Борис Васильевич не идет проторенными дорогами. Он не стремится использовать когда-то удачно сыгранную артистом роль, которая, несколько трансформируясь, потом долго путешествует из картины в картину.
А может, буква «р», на особый лад произносимая Барнетом, способствовала удаче этой пробы?
В тексте сцены, который мне вручил ассистент дли съемки, была фраза на немецком языке. Она была столь упряма, что никак не хотела становиться своей, органичной.
— Виртшафтлихе централе ин остен, — повторяю слова на все лады, но они все-таки звучат по-русски.
— Пауль, — говорит Борис Васильевич (он почему-то сразу перекрестил меня на немецкий лад), — попробуй сделать ударение на первом слове.
Пробую, но все же фраза упорно звучит по-прежнему.
Барнет подходит ко мне, облокачивается о стол, за которым сижу я, Генрих Эккерт, и, глядя мне в глаза, несколько раз повторяет подряд:
— Вирт! Вирт! Виртшафтлихе! Ты понял меня?
Терпение мое лопнуло, и я в точности передразниваю Бориса Васильевича, делая ударение на первом слоге, грассируя.
— Хорошо, прекрасно! Давайте сниматься! — одобряет он и радостно улыбается.
Так в фильме буква «р» разделила два характера: майора Федотова и Генриха Эккерта. Ведь трассирование типично для немецкой речи. Оно слилось с Эккертом, стало его органикой.
Слова одобрения, вера в артиста помогают духовному и физическому раскрепощению гораздо больше, чем первый окрик. В те дни в этом еще раз убеждаюсь, видя, как Барнет очень старается найти в каждом артисте что-то новое. И находит! Находит подчас глубоко спрятанное, о чем и сам артист порой не догадывается.
После удачной пробы меня утверждают сниматься в «Подвиге разведчика» в главной роли, и я… надеваю форму майора государственной безопасности.
В короткие часы отдыха Борис Васильевич заходит к лам домой, возится с нашим маленьким сыном, шутит, смеется. Помнится и такое. Сядет Борис Васильевич в колченогое бутафорское кресло… Время было тяжелое, послевоенное. И обстановка в наших квартирах была довольно жалкая… Посидит, помолчит, взъерошит седеющую шевелюру и скажет:
— Пауль, расскажи мне про дьякона.
— Про какого дьякона?
— Про Андрея Папилыча, который тонул, когда вы с ребятишками в бабки играли…
— Так я вам уже рассказывал о нем раз пять.