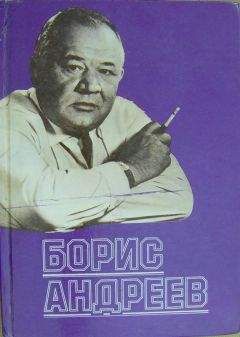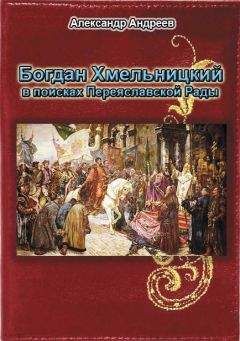— Извини, но, по-моему, Андрей выходил из комнаты в красной рубашке, а сейчас на нем белая. Проверь, пожалуйста, чтобы не пришлось переснимать.
Проверили. Борис Федорович был прав. Оказывается, там, в Киеве, он почти машинально сделал пометку в сценарии. Нам это сэкономило несколько тысяч рублей.
Порой мы поражались: Борис Федорович на многие месяцы запоминал свою позу в конце той или иной сцены, поворот головы, держал в голове весь текст, даже оговорки, если таковые случались, — словом, мельчайшие детали, которые в дальнейшем имели значение при монтаже и тонировке фильма.
Высочайший профессионализм.
С первых съемочных дней, с первых репетиций мы с Борисом Федоровичем пытались добиться не просто бытовой естественности звучания диалогов, но и некоторой виртуозности, что ли. Или, как называл это Борис Федорович, куража. Как люди разговаривают в жизни? Перебивая друг друга, наступая на окончания фраз, пропуская слова, допуская логические прорывы, повторяя слова и даже фразы, желая привлечь внимание к какой-то мысли. То есть диалог, записанный на бумаге, выглядит совсем иначе, нежели произнесенный вслух. С Борисом Федоровичем мы на репетициях и пытались добиться вот этого естественного, бытового звучания диалога.
А потом начинался следующий, с моей точки зрения странный, этап работы. Репетируя, Борис Федорович все убыстрял и убыстрял ее ритм. На первых порах у нас из-за этого дело доходило до небольших конфликтов. Я с отчаянием говорил:
— Все пропало. Все, чего с таким трудом добивались, пропало. Это уже не диалог, а какая-то детская считалка.
— Экран рассудит, — начинал сердиться и Борис Федорович.
— Я уже вижу, что будет на экране. Скороговорка. «Клара у Карла украла кораллы», — ехидничал я.
— Хорошо. Сделаем два варианта, — примирительно предлагал Борис Федорович.
Делали два варианта. В картину шел тот, убыстренный. Он-то и оказывался нормальным.
Вот тогда я понял, что экранное время выглядит совсем по-иному, нежели время в жизни. Позже об этом кинематографическом парадоксе я прочитал в лекциях М. И. Ромма по кинорежиссуре. А тогда, в 1964 году, этот урок режиссуры я получил у Бориса Федоровича Андреева. Впрочем, не только этот…
Зима. Съемочная группа выехала в экспедицию в Подмосковье, где нам предстояло снять эпизод схватки Федосеенко с волками. Снимать должны были на зоологической базе киностудии «Центрнаучфильм» (тогда «Моснаучфильм»), в Петушках Владимирской области.
А эпизод был такой: после вынужденной посадки Федосеенко пытается пробраться к людям. Уже которые сутки бредет по тундре. Его преследует стая волков. Волки выжидают, когда человек потеряет силы… Летчик отстреливается от волков, кончаются патроны, и он вступает в схватку с матерым хищником…
С большим трудом мы добыли в Киевском зоопарке по каким-то причинам выбракованного волка и с помощью нескольких камер сняли этот эпизод, причем сняли с разных точек и в разных ракурсах.
Во время съемок на зообазе я отметил про себя, что Борис Федорович здесь стал более молчалив, более замкнут. Справился о его здоровье — нет, все в порядке.
После завершения съемок в Петушках, как-то вечером, когда мы остались одни и гоняли чаи, Борис Федорович вдруг сказал:
— А знаешь, у фильма не будет успеха.
— Почему вы так решили? Вы ведь видели пока не весь материал, а уж делаете такой поспешный вывод…
— Материал, снятый в Петушках, войдет в картину? Вы ведь не откажетесь от эпизода схватки с волками?
— Нет, конечно.
— Не будет успеха… не будет… — упрямо повторил Борис Федорович. И затем изложил, почему он так думает…
Когда в художественном фильме герой умирает от выстрела или под колесами поезда, прыгает в пропасть или тонет в море, — зритель знает, что это лицедейство. Происходит как бы некий уговор создателей фильма со зрителями: мы вам с предельной точностью, с максимальной приближенностью к жизни поведаем некую житейскую историю. Зритель принимает условие и с определенным вниманием следит за происходящим. Если достоверность повествования нарушается, он может несколько расконцентрировать свое внимание. И если это нарушение не резкое, то и расконцентрация будет легкая, почти не влияющая на восприятие фильма в целом. Это — как сон, который бывает то более глубоким, то менее.
Но вот во имя предельной достоверности создатели фильма подменяют лицедейство подлинной жизнью. Либо это куски жизни, снятые скрытой камерой, либо, как в нашем случае, настоящая смерть волка…
Искусству трудно соперничать с подлинной жизнью по части достоверности. Кадры, снятые скрытой камерой, всегда выбиваются из ткани повествования. Они бьют по глазам, вызывают шок. В результате — расконцентрация зрительского внимания. Зритель выходит из состояния сопереживания. А ведь это беда для создателя фильма, ибо он-то стремился к обратному.
Еще в большей степени это относится к кадрам, где рядом с лицедейством соседствует подлинная смерть. Последние десятилетия включением таких натуралистических кадров в художественную ткань повествования начали грешить многие создатели фильмов. Причем убивают животных лицедеи на глазах у зрителей.
Что кино — это театр в наиболее приближенной к жизни обстановке, знают даже дошкольники. А тут вдруг не в научно-популярном или документальном, а в художественном кино показывают, как вонзают в грудь животного нож или копье, как хлещет кровь, как животное агонизирует… Какое уж тут сопереживание вашим выдуманным героям, если зритель на длительное время просто оглушен этой жестокой сценой. И чтобы вновь вернуть его внимание к происходящему на экране, к сопереживанию вашим героям, потребуется немало творческих усилий создателей фильма.
За смысл этих размышлений Бориса Федоровича Андреева ручаюсь. В записной книжке по этому поводу всего лишь две строчки: «О смерти в жизни и лицедействе. Несовместимо… Расконцентрация».
Кстати, это ли не тема для серьезного научного исследования, которого я, как мне кажется, до сих пор не встречал.
И еще одна запись: «Два Б. Ф. и крестьянский вопрос».
Вспоминаю. Снимаем в Киеве, в павильонах. И я и Борис Федорович живем в гостинице «Украина». Вместе ездим утром на студию, вместе возвращаемся. Наверное, о чем-то говорим, о чем-то спорим — время все стерло.
Но вот однажды встречаю в гостинице своего земляка и знакомого — заместителя председателя Херсонского облисполкома Бориса Федоровича Беньковского. Знакомлю Бориса Федоровича с Борисом Федоровичем. Оба в восторге от совпадения имен и отчеств, от херсонской тирании и от десятилитрового бочонка «Аксамита Украины», привезенного Беньковским. Они оккупировали мой номер, вероятно потому, что был он в самом низу, в полуподвале, близко от выхода на улицу, и сутки ровно просидели за вином и беседой.
Насколько я знаю, Борис Федорович Андреев был человек городской. Но как же он знал крестьянские заботы того времени! Об этом свидетельствовали вопросы, которые он задавал Беньковскому. А спрашивал он о садах, восстанавливают ли их крестьяне, не возникла ли заинтересованность у колхозника вновь завести на подворье корову, об урожаях в южных степях, о поливе и засухах… Они много в тот день говорили о колхозах, о том, что либо несовершенна сама форма такого хозяйничанья на земле, либо что-то недодумано в их экономической структуре. Чем еще объяснить, что крестьянин, испокон веку рвавшийся к своему наделу, к своему клочку земли, получив ее из рук Советской власти в виде колхозов, вдруг охладел к ней, его дети и внуки стали покидать село, мигрировать в город и даже в леса, леспромхозы. Парадокс истории: то зажиточного крестьянина насильственно отрывали от земли и высылали в леса, на разработки, но прошло время — и уже крестьянин сам, добровольно стал покидать ее, уезжать туда же, на лесоразработки. Значит, не удовлетворяет его труд на земле.
Я не стану приводить этот длинный спор-разговор, хотя, кажется мне, я хорошо его запомнил. Запомнил потому, что было это в шестьдесят четвертом году, когда все эти вопросы — о сложностях нашей недавней истории, о сложностях нашей жизни — задавали себе многие. И не получали на них ответа…
Запомнил я этот разговор еще и потому, что увидел совершенно иного Бориса Федоровича Андреева, непривычного, мыслящего глубоко и современно.
Помню его манеру спорить. Он молча выслушивал оппонента, не вступая в пререкания, а затем, помедлив немного, словно бы давая оппоненту остыть, тихо говорил:
— Да-да, все верно… почти. А если точнее, то почти все неверно…
И неторопливо, весомо, аргументированно доказывал свою мысль. И очень четко.
И вообще был он человеком четким, даже, я бы сказал, пунктуальным. И в словах и в поступках, делах.
В связи с тем, что я тут уже упомянул о бочонке «Аксамита Украины», — не скрою, иногда это случалось. Может быть, и не так редко, как хотелось бы. Но не помню случая, чтобы Борис Федорович пришел на съемки с помятым лицом или невыученным текстом — словом, не готовым к съемке. Не было такого. Ни разу не было за год нашей совместной работы. И никто из моих коллег не мог припомнить такого.