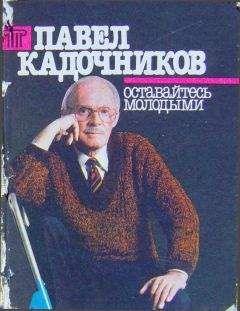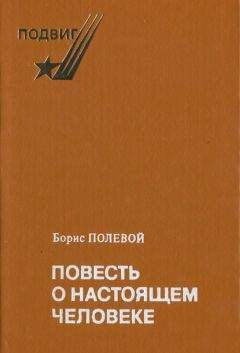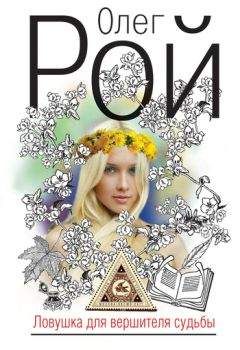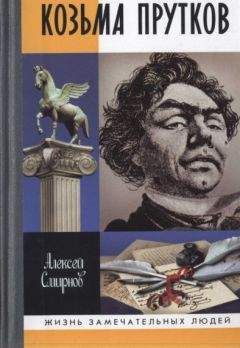И вот более чем через полвека я снова в этих краях и не могу оторвать взгляда от парги. Мороз, снег, озеро покрыто льдом, а я смотрю на берег, и теплеет на сердце от воспоминаний о том счастливом лете, проведенном вместе с отцом и братом.
…На закате солнца, когда озеро превращалось в рубиновую гладь, мы оставляли у берега парги свою плоскодонку, разводили костер, ели душистую уху из нескольких сортов рыб. Обычно это были линь, налим, крупная сорога, щука, окунь… Потом отец укладывал нас на толстый войлок, разостланный на камыше, накрывал тулупом, и мы блаженно засыпали.
Пока шли приготовления к ужину и сну, велась неторопливая беседа у костра. Отблески его пламени играли на могучих ветках пихтача, а где-то в камышах глухо стонала выпь.
— Пап, а пап, — шепотом говорит брат, — слышишь, как души усопших стонут?
— Чего? — удивленно вскинув брови, отвечает отец. Он даже перестал чистить рыбу. — Кто, говоришь, стонет?
— Души, говорю, стонут.
— Кто это тебе сказал?
— Бабушка Тарутина сказала: когда красные с колчаковцами бились, дак многие без покаяния похоронены.
— Ну-ну, рассказывай, — улыбается отец.
— Вот ихни души теперь и стонут.
Отец весело хохочет, гладит брата по стриженой голове.
— Выпь это стонет, выпь! Птица такая болотная есть… Ночь-то ей одной тоскливо в камышках сидеть, вот она товарища и зовет к себе. А ты — «души».
Утро отец всегда встречал стихами Никитина. Это был своеобразный ритуал.
Мы с братом еще поеживались под тулупом от утреннего холодка у потухшего костра, а отец уже стоял на пне и читал стихотворение Ивана Никитина «Утро»:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Полуоткрыв рты, затаив дыхание, мы слушали… Нам казалось, что отец по утрам на некоторое время превращается в доброго волшебника. Ведь все, о чем он так складно говорит, сбывается на наших глазах:
Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая,
И мы с Колей, откинув тулуп, уже сидим на войлоке, обхватив колени, и ждем, когда отец скажет:
Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися,
И утки, словно от волшебных слов отца, действительно с шумом проносятся рядом!..
Теперь отец смотрит на нас, глаза его смеются;
Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалашах пробудилися…
Конечно, пробудилися: мы не спим, протираем кулаками глаза и сладко потягиваемся на войлоке. А отец уже дочитывает стихотворение:
Едет пахарь с косой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое…
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
— Здравствуй! Здравствуй! — вопим мы, быстро срываемся с места и, не сговариваясь, бежим к позеленевшим сваям бывшей купальни умываться.
— Ашать будете, бесенята?
— Ек! — отвечаем по-татарски.
— Ну, тогда пожитки в лодку и айда щук с жерлиц снимать да «морды»-плетенки трясти: небось линей в них понатыкалось за ночь-то.
И вот мы в густых зарослях шумящего камыша. Отец с трудом вытаскивает за кол сплетенную из ивовых прутьев ловушку, которая похожа на большую бутылку или чернильницу-непроливайку. Он держит ее у борта лодки, пока не стечет вода. Чуть ли не половина плетенки забита трепещущей рыбой.
— У-ух, сколько! — спешим вытащить из горловины ловушки соломенную пробку, — и в лодку валятся золотые, словно полированные лини, сверкает серебром сорога…
Мне очень хочется подержать в руках скользкого, отливающего золотом линя, но удержать его невозможно: он выскальзывает из рук.
— Не трогай, Палька! Недосуг баловаться, — серьезно говорит брат. — Нам еще три штуки вытащить надо, да щук снимать.
С неохотой оставляю в покое линя.
Отец направляет плоскодонку через камыши к следующему колу и говорит:
— А ну, Павлик, повторяй за мной: «На реке мы лениво налима ловили; для меня вы ловили линя. О любви не меня ли вы мило молили?..»
Я путаюсь в скороговорке. Вместо «налима» говорю «малина». Отец и брат весело хохочут. Хохочу и я.
Может быть, окутанные дымкой времени, картинки моего детства кому-то и не покажутся столь значительными, чтобы их воскрешать в эмоциональной памяти. Для меня же они нечто такое, что приоткрыло двери в мир прекрасного. И если я в какой-то мере понял не только разумом, но и сердцем, что такое восходы и заходы солнца, нежный шепот камышей и свист ветра, и что такое «вологодские кружева», брошенные морозом на окна, и для чего человеку необходимы стихи, то обязан я этим моему отцу, носившему в себе удивительный мир художника.
Сегодня мне думается, что общение с зорями в парге, с природой, поэзией отцу было необходимо и для того, чтобы забыться — пусть хоть на миг — от кошмаров пережитого, от чего он бредил, вскрикивал во сие, чего не в силах был забыть всю жизнь.
В гражданскую войну колчаковцы захватили Бикбарду, арестовали отца как члена комитета бедноты, избили, бросили в броневик и трое суток держали в этом железном панцире без глотка воды, пищи, света. Можно представить, как сельчане уважали и любили отца, если, не страшась смерти, они доказали головорезам, что член комитета бедноты — выборное, неприкосновенное лицо и потому подлежит немедленному освобождению! Боясь народного гнева, отца освободили. Но — как?
— Лязгнула крышка люка, — рассказывал отец. — И меня выволокли из броневика. В глаза больно ударил свет. Показалось, ослеп от темноты, никого не вижу. Постоял немного, шатаясь. Бросили меня в глубокую телегу, по углам сели четыре солдата и молча повезли. Привозят в лес. «Ну, все, — думаю, — привезли расстреливать». Выволокли из телеги, приказывают: «Иди». «И не оглядывайся!» — добавляют. Сделал шаг и думаю: «Сейчас грянет выстрел…» Еще шаг, еще, а мысль: «Ну, вот, сейчас, сейчас…» У меня, как говорят, горела спина от мысли: этот последний шаг или — этот?.. Оглянуться не имею права. Вот опять иду… И сам удивляюсь, что еще иду… Шаг, еще шаг, еще… «Когда же раздастся выстрел?! Скорей бы уже!..» И вдруг загремела колесами телега, невольно оглянулся и вижу: телега вместе с моими мучителями уходит от меня!.. Не верю себе, «Значит, меня не расстреляли? Отпустили?..» Я прошел еще несколько шагов и упал от изнеможения…
Позже белогвардейцы вновь взяли в плен отца, на допросах жестоко избили и в Красноярске тяжело больного сыпным тифом бросили в покойницкую. Когда же красные освободили Красноярск, то в покойницкой среди трупов его земляк Илья Иванович Зверев заметил еле живого человека. Им оказался Петр Никифорович Кадочников!..
…В третий раз пришла за отцом смерть в блокадном Ленинграде. Видно, его полное изнеможение в те дни можно было сравнить только с пребыванием в покойницкой Красноярска в годы гражданской войны.
О тяжелом физическом состоянии отца я сразу же догадался по дрогнувшему почерку, которым он писал мне письма в Анжеро-Судженск. Только близкое дыхание смерти могло так обезобразить его всегда красивый и уверенный почерк.
И — что удивительно! — даже в это предсмертное время отец не утратил веры в магическую силу искусства и природы. Самым последним его желанием в блокадном Ленинграде было побывать в лесу, посмотреть на деревья, на небо, подышать родным воздухом.
Для меня каждое время года имеет не только цвет, но и запах, вкус. С детских лет весна связана у меня с ароматом березового сока. А все — дедушка Егор. Он впервые в жизни напоил меня этим целебным напитком природы.
— Павлуша, — помню, окликнул меня дедушка недалеко от Бикбарды на рыбалке, — пока мы здесь, на берегу, возимся, я напою тебя березовым соком. Хочешь?
— Хочу, — отвечаю, еще не зная, что это такое.
Дедушка подводит меня к березе, достает из кармана железяку, похожую на разрезанную вдоль трубочку, слегка наживляет белую кору, осторожно вводит в нее кончик чистого желобка и тихо, словно боясь спугнуть волшебство, шепчет:
— Терпение…
С удивлением вижу, как по желобку, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее сбегают в горлышко бутылки одна за другой чистые, как росинки, капли. От яркого весеннего солнца они горят и, разбиваясь о стекло, разлетаются, кажется, не брызгами, а искрами.
Терпеливо жду, когда дедушка разрешит глотнуть это лесное чудо… или хотя бы лизнуть кончиком языка.
Наконец наступает этот миг, и я с наслаждением пью, как говорит дедушка, божественный напиток. Он и по сей день мне кажется действительно божественным, ни с чем не сравнимым!