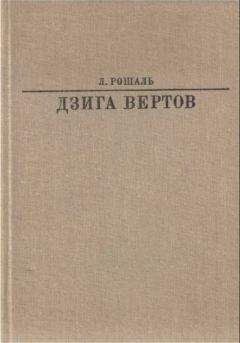Советской Украине и всему красному СССР этот фильм посвящает автор.
Дзига Вертов
Съемки „Одиннадцатого“ протекали в очень сложных условиях, но киногруппа на них шла сознательно.
Выразительный, новый для зрителя материал доставали буквально из-под земли.
Искали его на земле, над водой, в воздухе — не в переносном, а в прямом смысле этих слов.
Как всегда, одна из мелодий в полифоническом звучании фильма должна была передавать тему электрификации страны.
Для этого в июне отправились на Волховскую станцию, но не просто сняли общие, „открыточные“ виды ГЭС.
Вертов и Кауфман вели съемку из подвесной люльки канатной дороги — камера проезжала над водяным обвалом у плотины.
Потом этот кадр Вертов совместил двойной экспозицией с ленинским изображением. Кадр запомнился, стал одним из самых знаменитых в истории советской кинохроники.
Во время съемки неожиданно появилось некое административное лицо, вызвало караульного начальника, управляющего станцией, устроило разнос и заявило, что всех арестует, — риск при съемке был велик.
В июле группа снимала в Днепропетровске, на металлургическом заводе им. Дзержинского.
На заводе выдали пропуска с большой черной надписью: „Будьте осторожны!“ и припиской: администрация не несет ответственности за несчастные случаи с посетителями завода.
Помощник Кауфмана, будущий оператор Б. Цейтлин, рассказывал в августовском номере „Советского экрана“, что Вертов, слепнущий от жары и искр, Гарри Пилем перелетает от аппарата к аппарату через кипучий поток чугуна, а у оператора брызгами чугуна выпалены „дырочки“ на коже, и они гноятся.
В съемочном дневнике Вертов записывал: лазили на домну, под домну, снимали сквозь огонь, дым, воду и угольную пыль.
Во время съемок горели подошвы ботинок.
Потом снимали взрывные работы на строительстве Днепрогэса (вокруг гремели фугасы, вздымалась земля, строительная площадка напоминала огромное поле боевых действий), а под Одессой — большие маневры Красной Армии.
Маневры частью сняли с воздуха, из самолета, и там, в воздухе, неожиданно встретились со старым другом, недавним киноком Александром Лембергом — из другого самолета он вел съемки фильма „Люди в кожаных шлемах“.
В августе группа с небес опустилась глубоко под землю — в четвертую лаву Лидиевской шахты Донбасса.
В первый раз они спустились в шахту на другой день после приезда. Накануне предупредили: падаете в бездну, разрывается сердце, как бы у вас не лопнули барабанные перепонки, вы входите в клеть и вдруг срываетесь камнем вниз, с боков и сверху хлещет вода, дышать трудно и т. д.
Так напугали, что путешествие в клети Вертову по крайней мере потом показалось приятной прогулкой в быстром лифте, хотя действительно со всех сторон поливал дождь и воздух ударял в уши, но это даже доставляло удовольствие своей новизной.
Опаснее оказалось путешествие по штреку, где в абсолютной темноте проносились, согнувшись и вытянув шеи, коногоны.
Они попали между двух коногонов, один спереди, другой сзади, очень испугались, спасла находчивость сопровождавшего инженера.
Но они спускались снова и снова, чтобы снять необходимые кадры, а потом, „отсыревшие“, с насморками и бронхитами, поднимались наверх и долго отогревались на солнце.
В одном из репортажей со съемок Кауфман призывал зрителей не смотреть шахты, снятые в ателье, — истинного представления не получите.
Возникали и другие трудности: то выходила из строя аппаратура, то не хватало пленки, то давала брак лаборатория во время проявления материала.
Участились столкновения с братом. В дневнике Вертов сетует на его несговорчивость, пишет, что „Кино-Глаз“ снимать с Михаилом было легче.
Но дело было не в несговорчивости брата.
Кауфман вырастал в самостоятельного художника, чувствовал в себе силу и опыт. Воля Вертова, наверное, иногда слишком сдерживала его, а Вертов, видимо, не всегда это ощущал и учитывал.
(После „Одиннадцатого“ они снимут вместе еще одну картину, потом творческие пути разойдутся навсегда.)
Но, несмотря ни на что, работа в целом двигалась слаженно.
Вертов снимал картину с упоением.
В сущности, впервые появилась возможность по-настоящему осуществить то, что декларировалось еще в ранних манифестах, — передать пластическое совершенство техники, машинного ритма, величие и гармонию индустриальных форм.
В журналах, фильмах Вертов не пропускал такую возможность и прежде.
Но он впервые встретился с подлинными гигантами промышленности и строительства того времени — с огромными заводами, шахтами, со строительством крупнейшей в Европе Днепровской ГЭС.
Строки его дневника дышат необыкновенной нежностью и любовью.
Он писал, что породнился с бессемером, с бегущими раскаленными рельсами, с вертящимися огненными колесами, со сверкающей проволокой, которая, как живая, поднимается, изгибается, кривляется, вращается, прорезает, как молния, воздух, и вдруг покорно сматывается спиралями в аккуратные пучки.
Картина, однако, не стала запоздалой платой давнему чувству, сегодняшним осуществлением не осуществленного вчера.
Эмоции Вертова, его влюбленность в завод, в трубы и бессемеры, пришлись ко времени, оказались даже более реальными, чем тогда, когда были впервые объявлены. Как раз в эти часы, дни, месяцы стремительно разворачивалась эпоха индустриализации страны.
Нэп еще бушевал вовсю, но близился его конец.
Страна получила (и получала все больше) то, ради чего он был введен, — силы и средства для выхода из темноты и отсталости.
Многие прежние ленты Вертова были связаны с периодом временного отступления: вчерашняя жизнь, казалось бы, навсегда провалившаяся в тартарары, вдруг стала уживаться в некоем противоборствующем равновесии с ростками будущего, часто еще не окрепшими.
Нэп не кончился.
Тем более не кончилось противоборство.
Но кончилось равновесие — Вертов это чутко уловил.
Ростки окрепли.
„Одиннадцатый“ совпал с началом решительного наступления и рассказал о нем.
Рассказал о стране, превращавшейся в огромную новостройку.
Рассказал о вековой тишине, расколотой динамитными запалами, перезвоном тысяч и тысяч лопат, перестуком топоров и молотков, взвизгом пил, надрывным свистом юрких маневровщиков, ухающими ударами молотов.
Фильм начинался с первобытного спокойствия приднепровских пейзажей и разрытой у днепровских порогов скифской могилы, черными глазницами смотрел древний воин в далекое небо, вслушиваясь в тишину.
И вдруг подавала сигнал труба, ударял предупредительный колокол, запалялся шнур, и, через мгновение, вздрогнув, земля вставала дыбом — раз, и еще раз, и еще…
А рядом с могилой перекатывались по рельсам сорокатонные краны. Приседая на стрелках, шли тяжелые поезда с грузами. Сновали вагонетки.
„Скиф в могиле — и грохот наступления нового“, — записывал Вертов.
Слово-радио-тему Вертов исключил из этого фильма, вообще свел количество слов к минимуму.
Он вступал в спор со своей прежней картиной, но не ради спора.
Патетика „Шестой части мира“ наиболее полно выражалась сочетанием изображения со звучащим словом.
Патетику „Одиннадцатого“ Вертов стремился выразить иначе: через звучание самого изображения.
Исключив слово-радио-тему, он не исключил радио-тему.
В предыдущей картине зритель слышал (обращенные прямо к нему) надписи. В новом фильме он видел изображения, которые звучали.
Это был поиск новых форм, но он вытекал из конкретной смысловой задачи: передать пафос индустриального строительства через грохот наступления нового.
Через то, что в картине было названо „октябрьской перекличкой“ — заводов и шахт, строек и деревень.
Днепрострой, электрификация, добыча угля, выплавка чугуна — все это были как бы отдельные мускулы пары могучих рабочих рук, отдельные усилия в общем напряжении, в едином коллективном порыве к труду.
Передавая монолитность порыва, плотность общих усилий, Вертов рассекал кадр по горизонтали: в верхней части трудились два молотобойца, в нижней проходил товарняк, груженный рудой, без нее нельзя было ни сделать этих молотов, ни уложить рельсы, ни вбить упругий костыль.
Вариантом названия картины были „Великие будни“.
Октябрьская перекличка сливала, не давая потеряться в будничном грохоте новостроек, все голоса.
В нее вплетались и голоса часовых Родины, участников маневров, красноармейцев и краснофлотцев, они стояли на страже Октября, на страже ленинских заветов — в финале над ликующей во время октябрьских торжеств Красной площадью, над Мавзолеем возникали краснофлотцы с отомкнутыми у винтовок штыками.