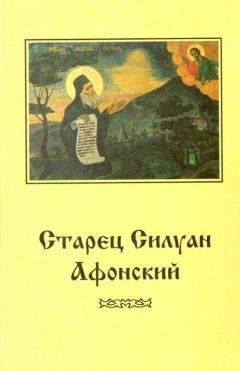И тогда Аргония зашептала Альфонсо:
— Вот и я вижу, что будет — ты уйдешь… Ну а я… А я буду жить в горах, где завывают ледяные ветры, где над разорванными обрывами несется темная, бесприютная пелена облаков… И там я буду ждать тебя… Там, в какой-нибудь лачужке или пещерке, я доживу эту свою одинокую жизнь. Я буду выходить в вой ветра, я буду медленно идти над ущельями, и… пусть… пусть в ледяном реве бури звучит мой болью полный голос. Пусть звучит та песня которую ты оставишь мне на прощанье…
И Альфонсо оставил ей песню — вот ее слова:
— Ветер темный, снег и буря,
Дорога темная лежит,
А он, проказит, волком дует,
Но дух сильней чем волк кричит.
Но темный дух мой одинокий,
Летает среди этих туч,
Он ищет путь в простор широкий,
Сквозь вечность — где звезды Единой луч…
Я помню, что было когда-то,
Прекрасные, солнечны дни,
Я слушаю сердце, и боль за то плата,
Ты видишь — в глазах моих мертвых огни.
И нет ни холодных ночей,
Ни горести и не разлуки,
Есть только свет твоих теплых очей,
И вечности нежные руки.
Конечно — Аргония запомнила каждое из этих слов; конечно — они сразу же стали для нее чем-то очень-очень дорогим, но это были уже мгновенья разлуки. И она, и хоббиты и братья почувствовали, что сейчас Ворон заберет их назад во мрак. И в эти мгновенья они были едины с Вороном — с ним, которого звали и Сауроном. И они понимали: когда Аргония и хоббиты, умирающие, лежали под стенами его башни, когда медленно угасала их жизнь, и они погружались в безысходной мрак — тогда и он вспомнил про свою потерянную любовь. Тогда пробудились в нем светлые чувства — и он захотел сделать для них добро. Но и тогда он знал, что слишком много в нем темного, что никто не поддержит его — что любовь его не возвратится. Теперь надвигались на него волны мрака, и он звал своих девятерых слуг назад.
Как же стремительна была эта разлука! Как многое хотелось сказать! Каждому ведь хотелось произнести мириады стихов, плакать, рыдать, не отпускать. Они ведь знали, что в последний раз видятся, что это окончание пути…
Но братья опустили их на цветущую землю. Да — на цветущую, потому что та, ушедшая буря была всего лишь колдовским наважденьем, и как только прекратилась, так вступила в свои права весна, и быстро, златистыми ручьими стаял наметенный снег. И все было таким прекрасным, и свежим, и сияющим, каким и должно было быть в весеннюю пору.
Фалко, Хэм и Аргония стояли на мягкой, согретой солнцем, молодой траве, а над ними парили, постепенно наполняясь тьмою фигуры Назгулов — на пальцах их били ужасными источниками мрака кольца, все больше окутывали их.
— Прощайте! Прощайте! Прощайте! — в великой горести взмыли голоса тех, кто стоял на земле.
Но нет — конечно, они не могли смирится. Вот взмыли эти девять фигур — закручиваясь черными вихрями, голодными волками воя, от солнечного света спасаясь — устремились в страну мрака, а эти трое все бежали и бежали за ними. Бежали до тех пор, пока на их пути не предстал чистейший родник — они припали к нему, и много-много слез было унесено к морю… Потом, через долгое время, уже под сияющим ночным небом, все слезы кончились, но боль то осталась — от боли было никуда не деться.
Они сидели под этими звездами, взявшись за руки, и молчали. Так они встретили зарю.
* * *
Пришла пора им прощаться. Немногословное то было прощанье, горькое.
Они стояли где-то среди лесов и полей. Стояли бледные, худые, с темными от боли глазами, но это были уже отнюдь не те жуткие призраки, которые умирали в Мордоре. Весна, природа возродила их… Возродила тела — души же пребывали в великой горести. Каждый чувствовал, что и сейчас над ним тяготеет рок, что и сейчас никуда от этого не избавится.
— Да, я должен идти один, к морю… — шептал Фалко.
А они вообще все это последнее время разговаривали очень тихо, как разговаривают (только по крайней необходимости, конечно), стоя над гробом любимого человека.
— Быть может, все-таки к дому… — молвил Хэм, волосы которого, как и волосы всех их стали совсем седыми.
— Нет… — вздыхал Фалко. — Сердце говорит, что я должен быть там, у моря. Зачем же эти размышления об огороде… Это хорошо, конечно, это прекрасно, но — это не для меня — это для тебя, милый мой брат. Возвращайся с Аргонией, она погостит в Холмищах недолго.
— Да. — шепнула Аргония. — Совсем недолго, а потом — направлюсь туда, куда и должно — к горам. Там, в ущельях, построю маленькую хижину. Там и проживу свои последние годы…
Больше они ничего не говорили. Только обнялись, только взглянули в последний раз в свои темные, страдающие глаза, и… разошлись. Каждый ступил на свою последнюю дорогу.
* * *
Итак, осталось написать только эпилог. Я умираю. За окном ночь, мириады звезд — средь них одна… И близка, близка уже заря! Я чувствую, что любимая моя рядом, что она смотрит на мое перо, как вывожу я эти слова, и ждет, когда напишу последнее, чтобы подхватить меня, и унести в вечность.
Да, любимая, мы будем с тобою. Я улыбаюсь — ты теплыми своими лучами согреваешь меня. Сердце останавливается, но мне так хорошо… Впереди вечность любви… Осталось написать только эпилог.
Это был морской брег. Темные валы неслись на штурм растрескавшихся утесов, ветер выл и в воздухе, и в трещинах камней; по небу летели стремительные тучи, и казалось, что все это происходит на дне некой весь мир, все мироздание объявшей реки. Носились, метались, борясь с ветром чайки — их тревожные крики вплетались в грохот валов. И вот, среди утесов появилась фигура — это был Фалко. Он шел медленно, и смотрел на море. Он впервые видел эту стихию, он любил ее, но любовь его была мрачна — он знал, что это грозное и величественное сейчас поглотит его.
И в сознании хоббита бушевала такая же буря, как и на море: «Зачем, зачем я здесь? Зачем все это?.. Прямого ответа нет… Но нет, нет — все-таки понимаю — этот мир стал чужд мне, мне противен рок, время — будущее, прошлое, пространство, материя. Зачем все это? Зачем эти движения масс, размышления, слова? Зачем?.. Мне уже ничего, ничего не надо. Ни страсти, ни любви, ни злобы, ни борения, даже и сна — этого нагромождения мудрых или кошмарных видений — ничего этого мне не надо. Только забвения — забыть себя, забыть все-все в вечном мраке… В тишине… В покое — вечность. Неизменные тысячелетья. Прощайте, прощайте…»
И он повернулся к ревущей, вздымающейся на него стихии, сделал к ней первый шаг, и тут вспомнил, что сейчас за ним из своего сна наблюдает молодой хоббит Фалко — хоббит у которого впереди столько страстей, борьбы, любви. Старец повернул к нему голову — увидел, конечно, только, грозное, стремительное небо, шепнул только одно слово: «Люби…» — а затем повернулся к смерти, и забыл уже и про того молодого, еще чего-то страждущего, и вообще — про все, про все. И буря, и грохот ее, и боль потерь — все это отступило. Впереди была только смерть. Бесконечная тьма, большая чем сам космос.
Он делал шаги, но он уже не чувствовал своего тела — он уже был освобожден от этой оболочки. Вот взметнулся над ним многометровый вал, но не обрушился — расступился, давая ему еще дальше зайти в лоно смерти. И пустое тело делало свои последние шаги. Следующий вал был особенно велик — он вздыбился выше утесов, а потом темной, как космос без звезд громадой обрушился вниз и от падения его содрогнулось все на многие версты окрест. Этот вал не расступился.
* * *
Летит черный ворон, летит в северном ветре, и визжат и вихрятся вокруг него полчища темных снежинок. Темно и низкое небо, темны и скалы, и ущелья — вся эта громада гор мрачна, бесприютна, ждет пробуждения, ждет, когда же обласкает ее своим светом небо, но до пробуждения этого еще так далеко!
И среди ущелий — никому неведомая, погнутая от времени избушка. В ней никого нет, зато над черной пропастью стоит некая фигура, которую можно было бы принять за статую, которая вот-вот расколется от ветра, если бы не волосы — это длинные и густые, совершенно седые волосы. И фигура эта поет, и голос ее грохочет во мраке
…И нет ни холодных ночей,
Ни горести и не разлуки,
Есть только свет твоих теплых очей
И вечности нежные руки.
Великая, ни с чем не сравнимая сила в тех словах. В них боль, в них надежда, и вера — вера в то, что новая встреча будет. И она шепчет:
— Но мы будем с тобою. Ты слышишь — мы, все равно, будем с тобою.
Увидит она ворона, и на иссеченных морщинами, страшных, впалых ее щеках появится горькая как ад улыбка, она молвит:
— А — это ты… И ты найдешь свою любовь… Ты это знаешь — даже и в мгновенья страшнейших злодеяний горит в твоих глубинах искорка изначального света — от нее ты и возродишься. Весь мир возник из маленькой искорки… Мы будем вместе… Так скоро, через мгновенье…