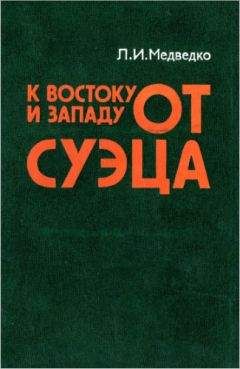Лицо и одежда его были покрыты запекшейся, от страшной ране на шее, крови. Альфонсо склонился над ним, и не знал, что говорить теперь, и что делать…
На плечо его слетел ворон и закаркал:
— Ну — все теперь понял?! Хватит же, в конце концов, терять время! Вставай и пойдем…
— Прочь! — взвыл Альфонсо, да с такой яростью, что ворон отлетел в сторону, и закаркал с какой-то ветки:
— Глупец, глупец! Неужели же ты не понимаешь, что только зря убиваешься…
Склонившись над Тьеро, положив на его холодный лоб, горячую вздрагивающую ладонь, Альфонсо шептал:
— Милый, самый дорогой мой друг… Прости, прости меня! Прости!!!
— И в каких бы просторах ты ни был,
Я, мой друг, не услышу тебя.
Но молю, чтобы это прощанье услышал,
Поглотил этот вопль в себя…
Так пел Альфонсо, и все ждал, когда Тьеро пошевелиться. Ведь, в душе то он верил, что тот жив.
Но вот закаркал громко ворон:
— Хватит же! Прекрати это безумие! Иди прочь от этого предателя! Пусть он лежит здесь, в чаще, где его никто не найдет! Пусть тлеет, пусть станет добычей для стервятников. Собаке, собачья смерть!
— Заткнись! — в ярости зашипел Альфонсо; вскочил на ноги и, сжавши кулаки, стал надвигаться на ворона. — Ты… ты… — он задыхался от ярости. — Не смей даже упоминать про него!.. Ты — пшел про-очь! Навсегда! Не хочешь?! Ну — убивай меня!
Ворон издал скрежещущий звук, заменяющий ему, должно быть, смех:
— Положим, я оставлю тебя, и куда же ты денешься? Ты, ненавидимый людьми, убийца матери, и этого негодяя? Хочешь попасть в темницу, чтобы в тебя плевали, смотрели с ненавистью, тыкали пальцем — хочешь просидеть там до скончания своих дней, сгноить своей пламень, когда до свободы истинной теперь совсем немного осталось? Или, быть может, хочешь встретится со своим отцом? Он, ведь, где-то неподалеку здесь рыщет — чувствует тебя. Отвечай — этого ли ты хочешь?.. Ведь, без моего руководства ты и шагу не сделаешь.
— Я… я сведу счеты с жизнью. Да — я не хочу никакой власти. Я хочу той бесконечной пустоты. Да — раствориться в ней, вот чего я хочу!
— Глупец! Ты будешь в этой пустоте страдать веками. Да так страдать, что нынешние твои страдания ничем будут!..
— Оставь же меня! — взвыл Альфонсо, и, когда услышал, что ворон опять принялся что-то говорить — рухнул вдруг посиневший, холодом веющий на грудь своего друга.
Сердце Альфонсо, как и сердца всех сынов Нуменора, было от рождения сильным, однако так долго терзаемое оно не выдержало — остановилось. Да и сам Альфонсо так жаждал забвения, что это было не удивительно.
Однако, ворон все это время внимательно следил за ним и, когда он пал в траву — слетел с ветви к нему на грудь; и широко раскрывши свой клюв, издал каркающий звук древнего заклятья:
— Сердце мертвое, воспрянь!
Смерть, прими иную дань:
Знаю, знаю — в далекой избушке,
На лесной, березовой опушке —
Уродился малыш, краснощекий,
И сияет отец светлоокий.
Этим древним, голодным заклятьем,
Ляжет смерть на младенца холодным проклятьем.
Он умрет, в этот час, в этот миг,
Силы жизни отдаст через тысячи лиг!
Сердце мертвое, воспрянь!
Ты из хлада смерти встань!
И, только пропел он эти строки, как с тяжким стоном приподнялся Альфонсо. Как никогда раньше, Альфонсо чувствовал себя лишь пешкой, которую передвигали высшие силы — ему оставалась только страдать, рыдать, и… продвигаться все вперед и вперед.
* * *
Эта крепость называлась Жемчужный клык. Она красовалась среди скал на восточном побережье, и говорили, что в ясную погоду, с самой высокой из ее башен можно было видеть вершины Синих гор.
Крепость не зря получила свое название: со стороны она действительно напоминала громадную жемчужину, заброшенную на скалы. Устремленными же к нему башенками она напоминала клык. Стены многих домов, действительно, были украшены жемчугом, также, отборными, крупными жемчужинами были покрыты и стены в нижней своей части, в верхней же они были сделаны из перламутра. Жемчуг вовсе не был драгоценностью в этих местах — после бурь, весь берег переливался его чарующим светом, и мальчишки любили строить замки из этих дивных камней, некоторые из которых были не меньше их кулачков. Самая же крупная, двухметровая жемчужина, красовалась вделанная в вершину самой высокой башни, и ночью, наполняясь лунным светом, сияла на многие морские версты, давая дружеским кораблям знать, что они на верном пути, ну а пиратам — что лучше им держаться от этих мест подальше…
По перламутровой стене Жемчужного клыка медленно прохаживался старец Гэллиос, а, рядом с ним — молодой, полнолицый, рыжебородый капитан Тэллай. Над ними повисло ярко-кровавое небо — то самое небо, под которым страдал, переживая гибель своего лучшего друга Альфонсо, а отец его, терзаясь не меньше, гнал своего коня в глубину леса, чувствуя, что его сын там…
С востока наползала грозовая стена, и, хотя была она еще очень далеко, уже слышался беспрерывный ее гневный рокот, виднелись и молнии, беспорядочными нитями протягивающиеся к воде.
— Неладное что-то в этом творится. — говорил Тэллай. — Словно бы небо на нас злится. Эти дожди холодные, да затяжные — для августа дело невиданное. Тут еще небо кровавое, да эта вон — новая напасть. Буря великая будет — несчастны те, кто не успеют достичь берега. Не один корабль пред теми валами не устоит. Ни за что бы не отправился в такую погоду, в открытое море.
— Ну, зарекаться не стоит, друг Тэллай. — с тревогой вглядываясь не на восток, но на запад, где за гребнем холма, ничего, казалось бы не было видно, молвил Гэллиос…
Некоторое время они шли в молчании, потом Тэллай молвил:
— Велики нуменорские мореплаватели, однако, случаются иногда такие бури, против которых вся человеческая сила — ничто. Да — есть в этом мире, такие силы, пред которыми ничтожен человек.
— Но это не так. — спокойным и сильным голосом говорил Гэллиос. — Вспомним слова мудреца Вэллина: «Я человек — и я горд этим. Предложи мне некто стать горою, водопадом, или звездой — я бы отказался, ибо никому иному, как человеку не дана такая сила воображения, такой творческий пламень. Гора стоит незыблемая веками, а тут — в двадцать лет он уже творит в своей воображении целые миры. Вот звезда — всегда серебрится на небе, но может ли звезда любоваться, может ли писать стихи? Вот буря — порой, она вырывает с корнями многовековые деревья, как тростинки переламывает мачты у кораблей, а человек, благодаря жажды жизни, жажде творчества и любви — выстаивает там, где рушатся скалы. Если тверд человек — никакая стихия не сломит его; и сам властелин тьмы окажется бессильным перед воли Человека».
Они прошли еще несколько шагов в молчании, после чего Гэллиос добавил:
— Но тот же Вэллин пишет дальше: «…Однако, никто — ни звезда, ни гора, ни какая тварь, ни, даже, мерзкий орк не может пасть так низко, как человек- стать более презренным, чем навозный червь…». Ну, Вэллин еще много размышлял об человеческой природе, а мы поговорим о друге твоем Альфонсо.
— После всего того, что стало нам известно, я не могу называть Альфонсо своим другом. Он — матереубийца. Нуменорская земля не носила злодея большего чем он. — молвил капитан Тэллай.
Издалека донесся тяжелый громовой рокот, и, казалось, что это некая огромная гора рухнула в воды бордового моря.
Гэллиос вздохнул:
— Ему тяжело и больно сейчас. Очень больно… Я чувствую его боль — его душа отяготилась еще каким-то злодеянием…
— Еще одно злодеяние… Да его… — Тэллай не договорил — махнул своею сильной рукою.
— Что ж его? — В темницу посадить?.. Убить? — голос Гэллиоса дрогнул. — А вот я одно тебе скажу: ему любовь нужна. Он, ведь, во мраке. Поглощает его тьма… Тэллай — тебе то больно, но твоя боль с его не сравнится; так что — помни одно — что бы не было — слушайся меня.
— Вас то и не слушаться? Вы мудрейший человек в королевстве!
— Тогда держи свой корабль готовым к отплытию.
* * *
— Из жизни уходить нам страшно.
Цепляемся за память за образы, за голоса,
Но это все напрасно —
Зарею смерти поднимается из мрака полоса…
Так говорил, сам не замечая, что говорит стихами, Альфонсо.
Ведомый вороном, он только что вышел из леса, и стоял на его опушке, и видел, кажущиеся бескрайними, багровые поля.
— Помни — твой отец где-то близко. — каркал ворон. — Говори тише, а, лучше, вовсе ничего не говори. Следуй за мной да побыстрее — этот Сереб остановился возле водопоя, где его может увидеть Рэрос. У нас осталось лишь несколько минут. Скорее же, Альфонсо…
Но юноша и не слышал ворона. Он хотел поведать свою боль хоть кому-то — эта боль рвала его, а он все не мог принять то, что лучшего его друга нет больше.