Тело упало. Руки дёргались в конвульсиях, будто ещё пытались дотянуться до оружия. Каз отшатнулась к стене, сползла по камням, рвано выдыхая через нос. Голова кружилась, хлюпающие звуки и хрипы Казимира не разбирала за звоном в ушах. Рука не слушалась, всё не выпускала кинжал. Пальцы тряслись, как после первого убийства. Каз подалась вперёд, выпрямляясь, прислушалась к себе. Ни страха, ни паники, ни раскаяния, только взвинченность, из-за которой всё тело пульсировало.
Шукрá[3], Алаян. Похоже, в свой последний день на земле богиня позаботилась о Казимире.
Догюд — один из двух важнейших праздников в Гастине. Смерть и возрождение Алги — дни, в которые гастинцы забывают о работе. Нет ничего важнее проводов и встречи бога. Но, главная прелесть этого дня для Казимиры — стражники, слуги, конюхи, пастухи, кузнецы, техники, все, абсолютно все должны сейчас быть в храме. На закате они выкопают идол Алги, внесут его в серый дом с закрашенными окнами и запрут двери.
Сегодня единственная ночь, которую муж и жена, Алгá и Алаян, проведут вместе.
Сегодня единственная ночь, которая может подарить Каз свободу.
Казимира прикусила губу. Не все в ордене набожны, не все родом из Гастина. В верхнем дворе, наверняка, кто-то да остался.
Каз оттолкнулась от стены, пошатнулась, но всё же встала. Оглядела форму одного, другого тюремщиков. У второго крови на одежде почти не осталось, пустой рукав она как-нибудь спрячет. Казимира сняла с трупа серую куртку, ремень, ботинки. Шлем прихватит наверху, на посту.
Ради всего одного пленника стражников в тюрьму посылали троих на смену. Ради однорукого и тщедушного пленника, который получал обед раз в два дня, а штаны подвязывал лоскутом одеяла, чтобы не падали. Ради пленника, бывшего ассасина, который ночами отжимался и повторял удары рукояткой ложки по воздуху. Ради пленника, который надеялся на освобождение, но готовился к побегу.
Казимира заправила волосы под воротник куртки, левый болтающийся рукав затолкала в карман, оглянулась на одну из масляных ламп на стене. Хм, а это идея.
[1] (гастинский) Тётя Айлин.
[2] В Морбосе нет деления на недели, дни считаются дюжинами. Тогда месяц равен не четырём неделям, а четырём дюжинам дней. В каждом сезоне по два месяца.
[3] (гастинский) Спасибо.
3
«Плакальщицами в Ордене Гур называют женщин,
которые отпевают погибших.
У Плакальщиц есть песня тоски по ушедшему —
поют её для погибших ассасинов.
Есть песня отпускания греха — её поют, когда ассасин кого-то убивает.
Дело в том, что в Гастине верят, что после смерти человек попадёт
на суд Алги, верховного бога. Там припомнят все ошибки смертного.
Чтил ли он предков? Поклонялся ли богам? Убивал ли, воровал, предавал?
Если человека оплакивали — Алаян, богиня мёртвых, защитит его от суда.
Если его грехи оплакали — Алаян защитит его от суда.
Поэтому ассасины редко отрекаются от своего Ордена —
за них больше никто не вступится на том свете».
Отрывок из книги «Мифы и легенды народов Мόрбоса»
под авторством Джиневры Гроуминг
Лет пятьдесят назад эта башня в нижнем дворе принадлежала орденским врачам, а подвал служил моргом. В те времена Орден Гур не нуждался в тюрьме — преступников казнили. Когда крепость разрослась, для медиков и техников выделили отдельное крыло. Башня освободилась, и сюда перебрались Плакальщицы. Подвал стал тюрьмой, но часто пустовал. Про редких узников могли забыть — не кормить и не проведывать по несколько дней. Плакальщиц не волновали ни другие адепты ордена, ни нарушители его законов. Только мёртвые.
Раньше у Казимиры эти женщины в трауре вызывали зуд под кожей и желание опустить взгляд, но шесть лет соседства свели благоговение на нет.
Каз надела шлем и вышла во двор, прикрыв за собой дверь в башню.
Сегодня по нижнему двору не носились ни дети, ни коты от них. Никто не выкатывал из гаража развалюху-трактор со словами «Ну, немного поковыряться, и летать будет!». Никто не кричал с кухни, чтобы ему принесли свежего молока. Никто не материл заснувшего на сеновале пастуха, козы которого залезли в огород.
К крепости Гур прилегала такая территория, что на ней могли бы поместиться несколько деревень. Адепты ордена могли взять землю в аренду, построить дом, жить здесь, всегда под рукой.
Нижний двор — место для слуг, техников, лекарей. Несколько троп отсюда уводили в поля для выгула скота или к арендованным домикам, адепты почти не появлялись в этой части крепости, только ученики иногда из своего крыла спускались сюда для занятий.
И гостей, конечно, сюда не приглашали. Для них был парадный въезд, где над аккуратной дорогой нависали кроны деревьев, создавая арку. Высокие двустворчатые ворота, обитые железом, снаружи охраняли четверо стражников и ещё четверо на стенах. Не всякий таран бы сломил эти ворота, а когда-то Гур уже пытались брать в осаду. Из ухоженного, мощёного булыжником верхнего двора десяток дверей и арочных коридоров вели внутрь крепости, к кузницам, к казармам, тренировочным залам, кабинетам лекарей и техников, даже к храмам богов. Сквозные гараж и конюшня соединяли верхний и нижний дворы, и Казимира лишний раз поблагодарила Алаян, что башня Плакальщиц выходила именно сюда. Через ворота и гарнизон было бы не пробиться.
Не отвлекаться.
Каз прикусила нижнюю губу. Боль отрезвляла. Охрана тут, может, и хуже, но всегда могут спустить гончих.
Отставить. Не думать об этом. И о клыкастых пастях тоже.
От гаража Казимиру отделяла сотня футов.
— Эй, Красими́р! — позвал голос со стороны псарни.
Старик Керэ́м упёрся плечом в створку ворот и помахал рукой, подзывая к себе. Каз остановилась на середине шага, даже забыла испугаться. Обернулась к Керэму-амзý [1], подняла руку в приветствии. Если не подойдёт — старик что-то заподозрит. Подойдёт — может узнать, Каз полдетства провела на его псарнях.
Она напрягла горло, расправила плечи и зашагала к псарю. Красимир был худощавым стражником, лет на шесть младше Каз. Она даже не узнала его, когда убивала.
— Чо там, как дела в тюрьме? — Керэм-амзу кивнул в сторону башни. — Как Каз?
Казимира неопределённо помотала головой.
— Я Эду не успел спросить, убежала на праздник. — Старик сплюнул под ноги. За его спиной заворчали собаки, и Керэм-амзу тихо свистнул, чтобы притихли. — Может, проведёшь меня всё-таки, а? — Он сам себя осёк: — Да знаю-знаю, не положено.
Каз сжала челюсти. Эда только два года назад выпросила разрешение относить еду, прежде этим занимались стражники. Больше никому Киор не позволял спускаться к Казимире.
— А ты, может, слыхал чего? — Керэм-амзу потёр красную шею в синих обскурных веснушках. — Вроде новый совет приезжал? Бабы чего-то шепчутся на кухне.
Казимира замотала головой.
— Чё из тебя сегодня всё клещами тянуть надо? Чё молчишь?
Каз открыла рот, горло сжал спазм.
Спас крик со стороны конюшен:
— Пожар!
Несколько человек высунулись из-за ворот гаража. Окно башни взорвалось осколками, и по камням мазнул огонь.
— Неси воду, чего стоишь, мать твою ети! — рявкнул Керэм-амзу и толкнул Каз в плечо. — Бегом! Воды! Воды несите, остолопы!
Кто-то уже бежал с двумя вёдрами, кто-то с шлангом от огородов. Не будь почти все слуги сейчас в храме, во дворе было бы не протолкнуться.
Каз побежала к колодцу, оглянулась — до неё никому не было дела — и свернула к гаражу. Пусто. Идеально.
Разбить лампу, разлить масло по трупам и деревянным перилам, протянуть дорожку до стола и чулана, где полно горючего хлама — Каз не впервой устраивать пожары. Особенно, в родной крепости. Она только надеялась, что этот будет последним.
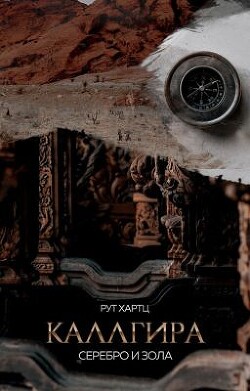

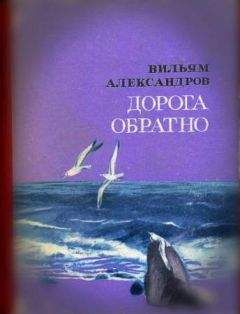
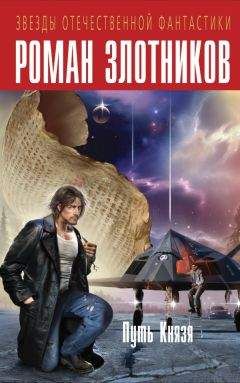

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](https://cdn.my-library.info/books/56343/56343.jpg)