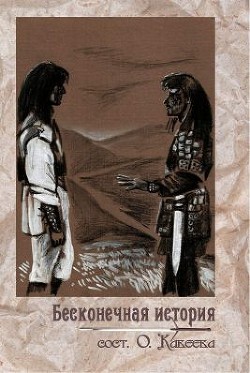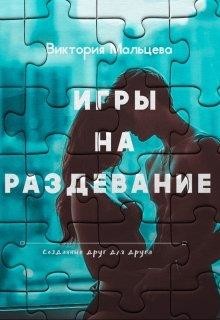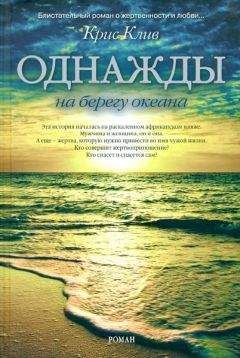Зато алкоголь тек рекой. Первые сутки Митос помнил с трудом. Вторые не помнил вовсе. Третьи и четвертые уже сливались воедино в яркой какофонии цветов и звуков.
Старик опрокинул в себя остатки вина и, подойдя, устроился на полу, в ногах никого не смущавшейся парочки.
— Дж… Но… Тьфу, Байрон, мне плевать, буду звать тебя так. Спой мне, приятель.
Резко отодвинутая девушка чуть не упала с кушетки.
— Рискованная просьба, дружище, — Байрон, изогнувшись, свесился с дивана. — Тебе может не понравиться песня, рожденная израненной душой поэта.
Смех Митоса заглушил даже разгневанные вопли венецианкой фурии.
— Я приму любой крик твоей души. Если только это не будет серенадой.
Байрон, ухмыльнувшись, щелкнул Старика по носу:
— Ломаете все мои планы, доктор Адамс. Как, впрочем, и всегда, — поэт чуть не упал, пытаясь одной рукой придвинуть к себе гитару, а другой — дотянуться до лежавшего на столике блокнота. — Любой крик души, говоришь? Хорошо. Тогда получай.
Пристроив блокнот рядом, Байрон взялся за гитару.
— О, только б огонь этих глаз целовать
Я тысячи раз не устал бы желать.
Всегда погружать мои губы в их све…
Митос резко перебил друга:
— Ну я же просил… Никаких любовных стенаний…
В глазах Байрона мелькнул недобрый огонек.
— Просил? Но не молил и на том спасибо, Док… Не о любви? Тогда как тебе так, — пальцы вновь вернулись к струнам, и в этот раз Митос уже не смел перебивать. Последние слова, последнюю песню прерывать нельзя.
Должно бы сердце стать глухим
И чувства прежние забыть,
Но, пусть никем я не любим,
Хочу любить!
Мой листопад шуршит листвой.
Все меньше листьев в вышине.
Недуг и камень гробовой
Остались мне.
Огонь мои сжигает дни,
Но одиноко он горит.
Лишь погребальные огни
Он породит.
Надежда в горестной судьбе,
Любовь моя — навек прости.
Могу лишь помнить о тебе
И цепь нести.
Но здесь сейчас не до тоски.
Свершается великий труд.
Из лавра гордые венки
Героев ждут.
О Греция! Прекрасен вид
Твоих мечей, твоих знамен!
Спартанец, поднятый на щит,
Не покорен.
Восстань!
Восстань, мой дух! И снова дань
Борьбе отдай.
О мужестве! Тенета рви,
Топчи лукавые мечты,
Не слушай голосов любви
И красоты.
Нет утешения, так что ж
Грустить о юности своей?
Погибни! Ты конец найдешь
Среди мечей.
Могила жадно ждет солдат,
Пока сражаются они.
Так брось назад прощальный взгляд
И в ней усни.
Байрон отложил гитару и откинулся на диван, прикрыв глаза. С минуту они сидели в полной тишине. И даже не понявшая ни строчки венецианка застыла на балконе, так и не поднеся к губам тлеющую сигарету.
— Ты провокатор… — Митос поднял взгляд на друга, — Провокатор, спекулирующий на чувствах старика.
Он не видел лица поэта, но представлял его прекрасно, невзирая на хмель:
— Они были последними? Ты понимаешь, о чем я.
— Одни из. Может быть — да, может, было что-то еще. Я уже не помню порядка. Я даже тексты начинаю забывать, — он швырнул Митосу на колени блокнот. — Тут те, которые забывать не хочу.
— Я помню все.
— Я верил.
Двое суток спустя
Голова трещала, как будто ее разрывали изнутри. И Байрон, с шумом и проклятиями собиравший вещи, делал эту боль еще невыносимее.
— А тише не пробовал? Ты тут не один, монстр!
Поэт в расстегнутой рубашке, с висящим на плече ремнем, появился в дверях:
— Не ворчите, милый доктор. И еще вчера ты на шум не жаловался.
Нервы все-таки не выдержали:
— Боже, Байрон, мать твою! Ты можешь говорить нормально?! Без «милый», «дорогой», «дружище»?! И называй меня по имени! Я уже черт знает сколько не «доктор»!
Поэт так и застыл в дверях:
— Да… Док, мне казалось, ты знаешь миллион способов борьбы с похмельем. Неужели ни один не помог?
Застегивая рубашку, поэт откинул голову назад.
Шея. Треклятая бледная тонкая шея. И меч. Былой кошмар вновь пронесся перед глазами. Обрастая новыми основаниями.
Чисто убранная ванная. Митос тогда относил в нее ножницы. И решил все же осмотреться лучше.
Пуля закатилась за, простите, унитаз. Потому поэт и не заметил ее, убираясь. Она, выйдя из тела, видимо, застряла в одежде. Обычная пуля, покрытая засохшей кровью, в принадлежности которой Митос не сомневался.
«Почему ты так не хочешь жить, парень? Почему, черти тебя дери?»
— Байрон, а может, я ошибся?
Ремень, звякнув пряжкой, упал на пол.
— Док, ты о чем?
Старейший поднялся и подошел ближе:
— Наркоманы всегда лгут. Неужели даже когда становятся бывшими? — он почти видел, как что-то разбивается в глазах поэта.
— Я не лгал тебе… Просто… Ты не поймешь, Митос.
Это было ударом под дых. Значит, понять наркомана, скидывающего с крыши людей, и дать ему шанс он смог, а теперь не поймет?! Понять суицидника, загнавшего в угол самого себя — смог, а теперь его понимания не хватит?!
— Знаешь, бессмертие не для всех.
«Ну же, взорвись, не дай мне это сказать…»
Поэт молча поднял ремень с пола.
Молча, черт его побери!
— Я ошибся, подумав, что оно для тебя, раз ты продолжаешь всеми силами стремиться к смерти.
Голос Байрона был мертвенно спокойным:
— С чего ты взял, что я хочу умереть?
Митос больше всего на свете хотел остановиться. Мешало понимание того, что иначе правду он не получит никогда. А помочь, не зная ее, было невозможно. Вот только не ошибся ли он, решив, что его помощь нужна?
— Люди, которые хотят жить, не кидаются под пули, а если попадают в неприятности, не лгут и не прячут следы, а рассказывают об этом!
Байрон, взяв со столика сигареты, закурил. Парень упорно избегал смотреть в глаза Митосу, глядя куда-то за окно.
— А что делают люди, которым некому рассказать? Что делать им? Хочешь, я расскажу тебе историю, мой милый Док? О мальчике, который не мог верить никому? О мальчике, которого в детстве насиловала его няня? Которую он должен был ненавидеть, но ему казалось, что она единственная из всех его любила? О мальчике, которого из-за «некоего изъяна» стыдилась родная мать? Которую он должен был любить, но она изводила его, заставляя бояться родного дома? О мальчике, у которого была сестра, любимая и любящая? Которую он обрек на позор? Часть о предавшей жене и о дочери, с которой он увиделся, лишь когда та уже сама стала матерью троих детей, ты и так знаешь, дружище. И был у этого мальчика единственный человек, которому он верил и который был для него ближе всего остального мира. Знаешь, что было дальше, Бен?