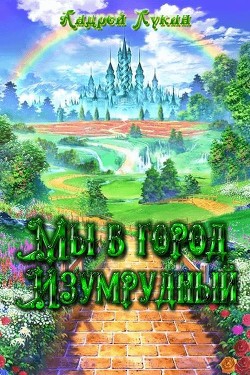— Я ничего такого не думаю, — излишне резко сказал он. — Я только одно спросить намеревался: вы меня хотите официально допрашивать, со всею обстановкой?
— Зачем же-с? Вы не так поняли. Я, видите ли, у всех показания отбираю, — ласково проговорил Гуамокий. — Вот и к вам вопросик имеется. Вы старуху прежде того дня навещали… Вы ведь в восьмом часу к её дому подходили-с?
— В восьмом, — отвечал Дровосечников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить. И тот час добавил, сам понимая, что делает это напрасно. — Я матушкино колечко с камнем зелёным в залог оставить хотел… Впрочем, я не помнюс-с. Я был болен… Я и сейчас ещё себя плохо чувствую… Слабость и в голове шум. Дня три назад попал под дождь и промок до нитки. Все суставы так и ломит, словно заржавели…
— Стало быть, в восьмом? — ещё раз спросил Филинов. — А не видали ли хоть вы, во втором этаже, двух работников или одного из них? Они красили там, не заметили ли?
— Работников? Нет, не видал, — медленно ответил Дровосечников, замирая от муки поскорее бы отгадать, в чём именно ловушка и не просмотреть бы чего. — Не было там работников.
— Да ты что же! — крикнул неожиданно Кокусов, как бы опомнившись и сообразив. — Ведь он за день до того там был, а они красили в день убийства! Ты что спрашиваешь-то?
— Фу! Перемешал! — хлопнул себя по лбу Гуамокий. — Чёрт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит.
Губы Дровосечникова вдруг задрожали, глаза загорелись бешенством, и он изо всей силы стукнул кулаком по столу.
— Не позволю! — вскрикнул он. — Не позволю! Какое вам дело? К чему так интересуетесь? Я всё понимаю! Вы нарочно дразните меня, чтобы я себя выдал!..
— Да уж явственнее и нельзя себя выдать, батюшка, — обрадовался Филинов. И показательно так обрадовался, словно заранее придумал вот так радость свою на всеобщее обозрение выставить, чтобы всем было ясно, что радость его по делу, а не по излишней лёгкости натуры. — Ведь вы, Дровосечников, неспроста в исступление пришли. Не кричите, ведь я людей позову-с!
В это время у самых дверей в другой комнате послышался как бы шум.
— А, идут! — вскричал Дровосечников, — Ты уже за ними послал!.. Ты их ждал! Ну, подавай сюда всех: дворников, работников, свидетелей, чего хочешь… давай! Я готов!
Но тут случилось странное происшествие, нечто до того неожиданное, что уже, конечно, ни Дровосечников, ни Гуамокий Каритофилаксиевич на такую развязку и не могли рассчитывать.
Послышавшийся за дверью шум вдруг быстро увеличился, и дверь немного приотворилась.
— Арестанта привели, — сказал чей-то голос, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет, и сразу бухнулся на колени.
Вид его с первого взгляда был очень странный. Удивительная бледность покрывала лицо его, побелевшие губы вздрагивали, глаза смотрели, никого не видя, и отчего-то представлялось, что лицо его не живое, а как бы изображённое не очень одарённым в художественном отношении рисовальщиком. Некая в нём обнаруживалась при внимательном рассмотрении пугающая неправильность черт.
Он был еще очень молод, одет как простолюдин, роста среднего, худощавый; в растрёпанных волосах запуталась невесть откуда взявшаяся солома, словно он на сеновале провёл минувшую ночь.
— Что с тобой, Воронопугайлов? — спросил Гуамокий с весьма неприветливым выражением. — Тебе за какой надобностью расследованию мешать вздумалось?
— Виноват!.. Мой грех!.. Я убивец!.. — вдруг произнес человек, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом.
Секунд десять стояла тишина, точно столбняк нашел на всех; даже конвойный отшатнулся к дверям и стал неподвижно.
— Я… убивец… — повторил Воронопугайлов, помолчав капельку.
— Кого ты опять… убил?
Гуамокий, видимо, потерялся, отчего и вопрос его форму имел несколько странную.
— Гингемию Ивановну убил… Омрачение нашло… — прибавил Воронопугайлов вдруг и опять замолчал. Он всё стоял на коленях.
Гуамокий несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но затем крикнул почти со злобой:
— Ты мне что с своим омрачением-то вперед забегаешь? Я тебя еще не спрашивал: находило или нет на тебя омрачение! Говори: ты убил?
— Я убивец. Вяжите меня сей же час, — произнес Воронопугайлов.
— Э-эх! Чем же ты её убил?
— Руками убил. Шею ейную вот этак скрутил, как курям скручивают, она и померла.
Гуамокий мелко засмеялся, трясясь всем телом и похлопывая себя по коленям; видно было, что разговор доставляет ему нешуточное удовольствие.
— За что ты мог старуху эту безвредную убить?
— Как раз за вредность её и убил, — торопясь и как бы выговаривая заранее придуманное объяснение, сказал Воронопугайлов. — Она на меня порчу навела, и пиявиц с лягухами собирать понуждала для чёрных колдунских дел.
— Ну, так и есть! — вскрикнул Гуамокий, — Не свои слова говорит! Подучил кто-то. Нет, братец, шалишь! Я тебя насквозь вижу… Думаешь, я не знаю, почему ты любой грех на себя взять торопишься? — он всем телом обернулся к Дровосечникову. — Сей редкостный типус от рекрутской службы увильнуть такой хитростью надеется. Мол, пока суд да дело, пока разберутся, что он в убийстве невиновен, глядишь, времечко-то и вышло-с. Не-е-ет, меня не обманешь… Шею он ей свернул, убивец… Уведите его… На улицу его гоните!.. Вон! Вон!
Воронопугайлов насмерть вцепился в ножку стола, его оторвали, тогда он схватился за ковёр, и его выволокли из кабинета вместе с ковром. Однако некоторое время доносилось ещё: «Я убил! Меня вяжите! Показания сдаю!»
— Каков шельма! — чуть ли не с восторгом вскричал Гуамокий. — В пятом убийстве уже признаётся… Нет, в рекруты его, в службу, с ружьём в охранении постоит, может, хоть мозгов наберётся. А старуху не он убивал, не он.
Опомнившийся к тому времени Дровосечников весь задрожал, как будто пронзённый.
— Так… кто же тогда… убил?.. — спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом.
Филинов даже отшатнулся на спинку стула, словно был крайне изумлен вопросом.
— Как кто убил?.. — повторил он, точно не веря ушам своим, — Да вы убили, Дровосечников! Вы и убили-с… — прибавил совершенно убежденным голосом. — А потом под колымагу и пристроили.
Кокусов страшно закашлялся и вытаращил глаза. Дровосечников вскочил со стула, постоял было несколько секунд и сел опять, не говоря ни слова. Мелкие конвульсии вдруг прошли по всему его лицу.
— Это не я убил, — прошептал он, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. — Не мог я убить. Это вы… к фамилии моей привязались… Дровосечников, мол, так, значит, и убил топором… прямо обухом в темя…
— А откуда вам известно, что её обухом в темя ударили? — тихо и очень строго прошептал Гуамокий.
Оглушительное молчание воцарилось в кабинете, и длилось даже до странности долго, минут с десять. Перепуганный Кокусов с неописуемым выражением смотрел на молчащего Дровосечникова, ожидая, видимо, что тот прямо сейчас заговорит и выскажет полное и понятное оправдание, и всё обернётся не более чем глупой шуткой. Но Дровосечников молчал.
— Это вы-с, вы-с, и некому больше-с, — убеждённо повторил Гуамокий. — Придумали себе теорийку подходящую, для оправдания мерзости своего поступка, да и преступили заповедь. Жевун, мол, вы дрожащий или право имеете?.. Необыкновенным человеком себя почитаете, коему намного больше позволено… Нет-с, не так: который сам себе волен многое позволять. А на деле-то одна лишь жажда обогащения вышла. Вы ведь, верно, финансовые свои затруднения поправить надеялись, да? А, преступив, кровушки-то и испугались, дрогнули душой, потому как обычная у вас душа оказалась, подленькая и трусливая. Топором по темечку смелости хватило, а в старухином барахлишке подробнее поискать… Или не побрезговали? Что вы у неё взяли?! Что-то же ведь взяли, не правда ли? Дровосечников только бессильно покачал головой, не поднимая глаз от пола.
— Вот что ещё мне покоя не даёт-с, — продолжил чуть погодя Гуамокий Каритофилаксиевич. — За каким бесом вам придумалось колымагу эту бесполезную опрокидывать? Кто же таким глупым манером следствие с следу сбивает?.. Как дитё малое, право слово.