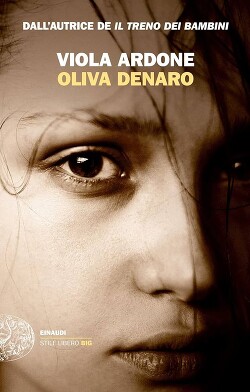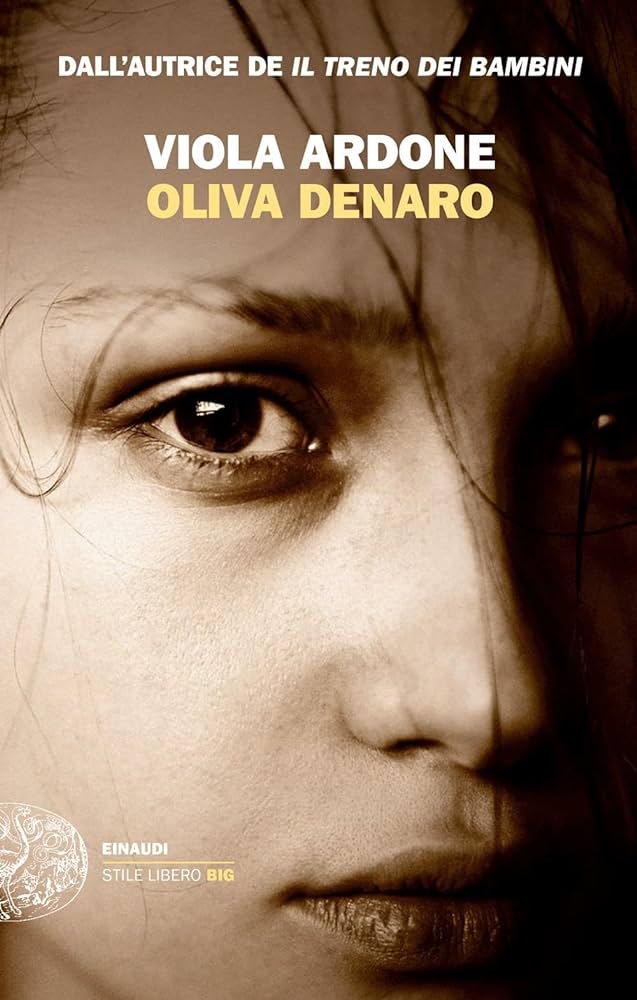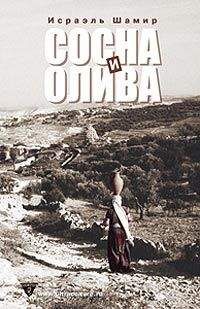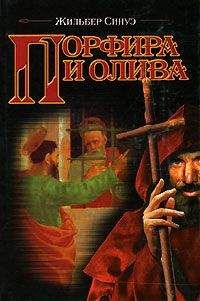«Гляди, гляди, овца!» – тянул палец Саро, указывая в небо.
«И вовсе не овца, а собака», – не соглашалась я.
«Да какая ещё собака? – облако, гонимое ветром, тем временем меняло форму. – Это же олень! Смотри, какие рога... – но тут налетал очередной порыв ветра, облако растягивалось в белую ленту, и Саро, осёкшись, поправлялся: – Нет, нет, это змея!»
«И не овца, и не олень, и не змея», – решала наконец я.
«А что?»
«Морлень!» – отвечала я с самым серьёзным видом.
«И что это такое?»
«Ну, морлень», – столь же убеждённо повторяла я.
«Не считается! Не бывает таких морленей, – но, не будучи в этом уверен, поскольку в школу ходил только до пятого класса, он тут же спрашивал, надеясь меня подловить: – Не видишь разве, у него два рога?»
«Ну да, обычный двурогий морлень».
«Что, правда? И как же выглядят эти двурогие морлени?»
«А то ты не видишь! Как то облако!» – хохотала я.
Он сел рядом. Я хотела рассказать ему об осах, о чётках и скорбных тайнах, но не находила слов. Поэтому просто провела рукой по его макушке, чтобы стряхнуть остатки опилок, и ничего не сказала.
– Саро, иди обедать, всё на столе! – крикнула с крыльца Нардина. Потом, увидев меня, попыталась пригладить кудри. – Олива, и ты здесь? Вот повезло-то: я как раз пасту с анчоусами приготовила, твою любимую!
Ей я о том, как мы читали розарий у синьоры Шибетты, тоже говорить не стала, хотя уж кто-кто, а она, наверное, могла бы понять: ей ведь тоже пришлось пережить немало осиных укусов.
14.
После обеда, закрыв по жаре ставни, Нардина с доном Вито прилегли отдохнуть. Саро хотел ещё немного посидеть во дворе, но мне не терпелось вернуться домой, и я ушла. Солнце окрасило город жёлтым, всё вокруг вскипало от зноя. Я шла, прижимаясь к стенам, чтобы заполучить хоть капельку тени, которую те отбрасывали на тротуар. Казалось, мир обезлюдел.
И тут я заметила его – в самом конце улицы, почти у выхода на площадь. Подойдя к фонтану, он сунул голову под струю: вода потекла по лицу, закапала с волос. Наконец, выпрямившись, обеими руками пригладил чёрные кудри и заложил за правое ухо веточку жасмина. Одет он был во всё белое, а заметив меня, отвесил глубокий поклон. Я шла навстречу быстрым шагом, не глядя ему в лицо. Тогда он, порывшись в кармане, достал апельсин и принялся счищать кожуру. Потом, просунув между дольками большие пальцы, разломил пополам, продемонстрировав мне сочное пунцовое нутро.
– Не бойся, бери, сладкий, – предложил он, протянув руку так, словно хотел меня схватить.
Я обернулась, но улица была пуста. Только он и я.
– Хоть губы смочи, а? Вот, гляди, – он поднёс апельсин ко рту, погрузил в мякоть зубы, язык, и принялся высасывать сок, пока под кожицей не остались одни белёсые прожилки. – А это тебе, – и он протянул мне вторую половину. – Вдруг понравится, как в детстве рикотта с сахаром.
Я взяла апельсин, ещё тёплый от его пальцев, липкий от выступившего сока. От терпкого, щиплющего ноздри запаха меня затошнило, и в тот же миг низ живота пронзила острая боль.
Если не разжимать губ, он не сможет прочесть моих мыслей. Помни, улыбнулась – значит согласилась. Так мать говорит. А он взглянул на меня так, словно вместо привычного разреза узких чёрных глаз видел на моём скуластом смуглом лице нечто прекрасное, и мне вдруг стало страшно. Чтобы прогнать это навязчивое чувство, я принялась вспоминать латынь. Первое склонение: rosa, rosae, rosae. Я столько раз повторяла эти слова перед сном, стараясь не ошибиться в произношении, что они превратились в молитву. «Rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa, – вертелось в голове, пока он, шагнув вперёд, не оказался насколько близко, что до меня донёсся запах жасмина. – Rosae, rosarum, rosis!», – последние слова я выкрикнула во весь голос, будто ругательство, выставив вперёд руку с апельсином, чтобы не дать ему подойти. Потом вскинула её к плечу, как в детстве, пуляясь из рогатки камнями, и что было силы швырнула. Половинка апельсина угодила ему в бедро, пунцовая мякоть перепачкала белые брюки. Он вынул руки из карманов: я испугалась, что ударит, но он лишь расхохотался и потёр ногу. А я, отшатнувшись, опрометью бросилась через площадь, и дальше, не оглядываясь всю дорогу до дома, и вслед мне эхом летел его смех. Но стоило мне свернуть на грунтовку, как я споткнулась о камень, потеряла равновесие, сандалии слетели с ног, и я рухнула на колени, в самую пыль.
15.
– Ты что это натворила? – заорала мать, стоило мне войти в дом.
– Упала, расшиблась.
Она взглянула на мои ноги, и я вслед за ней: колени расцарапаны, но не до крови. Пришлось, нагнувшись, провести по лодыжкам, потом по бёдрам, пока кровавая нить не привела к резинке трусов. Отдёрнув руку, я увидела, что ладонь покраснела, словно сок давешнего апельсина – густой, тёмный, разве что без запаха. Ну вот, стоило только остановиться поговорить с мужчиной, как сразу же заболела, подумала я и покосилась на мать, пытаясь оценить тяжесть проступка и суровость грядущего наказания. А мать даже ругать не стала: взяла за руку и отвела в уборную.
– Видишь, вот и твоё время пришло, – сказала она совсем другим голосом, больше напоминавшим тот, каким говорила с соседками. Ещё бы: благодаря этой тоненькой струйке крови у неё наконец появилось доказательство, что я тоже женщина, что мы с ней похожи больше, чем могли представить. – Пойдём, объясню, что с этим делать.
Это же я, я сама виновата, думалось мне, и ещё апельсин, и мокрая, поблёскивающая на солнце копна волос, возникшая из-под струй фонтана, и глаза, смотревшие так пристально, что проникли под одежду, и голос, говоривший со мной. Это он, он сделал!
– Придётся тебе теперь чистоту блюсти по несколько раз на дню, – объясняла мать, пока я молча смотрела, как наполняется таз. – Ничего, привыкнешь, – хмыкнула она, протягивая сложенную вчетверо белую тряпицу. Потом, хрипло рассмеявшись и чуть склонив голову набок, стала меня разглядывать, будто давно не видела. И улыбка такая счастливая, какая бывает, только когда она над усопшим посидит. Даже о том, что случилось, пока мы читали розарий, похоже, забыла.
Я провела рукой по груди: пуговицы на месте, ткань не натянута. И юбка по-прежнему едва не спадает, нисколько не облегая бёдер. Выходит, ничего не изменилось, сказала я себе. Да, пошла кровь. Но я-то осталась такой же, какой была.
Помню, перед первым причастием меня повели прокалывать уши. Я шла, держа за руки мать и Фортунату, и чем ближе мы подходили к дому священника, где ждала готовая проделать эту нехитрую операцию Неллина, тем сильнее, казалось мне, становилась их хватка. Поначалу я была рада: все подруги уже прокололи уши и с гордостью демонстрировали воткнутые в ранку золотые булавки, а я так хотела быть на них похожей... Но, подойдя к двери, вдруг почувствовала холодок неуверенности:
«Я передумала, мам, не надо!»
«С какого это перепугу? А Неллине я что скажу?» – рассердилась мать.
Тогда я упёрлась обеими ногами, отказываясь двигаться дальше, и принялась взывать к Фортунате, моля о поддержке. Но та лишь коснулась своих мочек, из которых свисали два позолоченных колечка:
«Все женщины их носят. Или хочешь, чтобы тебя считали мальчиком? – улыбнулась она. – Радуйся, сегодня ты станешь взрослой».
Становиться взрослой мне определённо не по душе, подумала я.
Неллина усадила меня в тёмное кресло с мягкими подлокотниками и попросила запрокинуть голову.
«Что бы ни случилось, не двигайся, – велела она, хотя мать всё равно держала мой лоб рукой. – Не будешь дёргаться – даже ничего не почувствуешь».
Но это оказалось неправдой. Прижав к мочке кубик льда, пока та не онемела, Неллина сунула мне за ухо пробку, чтобы булавка, пройдя насквозь, не задела заодно и шею. Молчание и послушание, сказала я себе, потом закрыла глаза и почувствовала едкий запах дезинфицирующего средства, от которого сразу закружилась голова. Чтобы справиться с болью, пришлось сосредоточиться на чём-то хорошем: я вспомнила, как получила звёздочку по грамматике, а после, по дороге из школы, зашла в кондитерскую, где попробовала рикотты с сахаром. Но стоило кончику иглы проколоть кожу, как я вскрикнула и отчаянно мотнула головой, сбрасывая материну руку. На белую блузку упала пара капель крови.