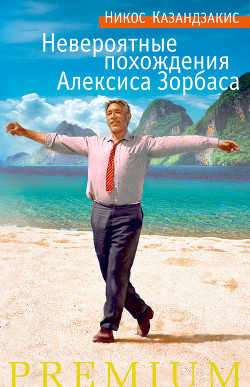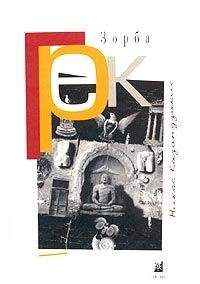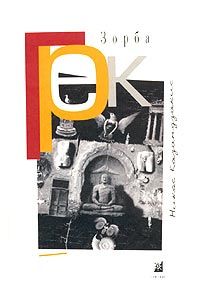— Если бы ты мог, — сказал он наконец, — по крайней мере…
— Что ты имеешь в виду? Скажи яснее.
— Если бы ты мог по крайней мере показать им мир лучший, чем тот мрак, в котором они сейчас живут. Есть у тебя такой?
Такого у меня не было. Я хорошо знаком с миром, близким к распаду, но не знал грядущего, который поднимется из руин. «Этого никто не может знать наверняка, — думал я. — Старый мир осязаем, прочен, мы в нем живем и ежеминутно вступаем с ним в схватку. Мир будущего еще не родился, он неуловим, бесформен, это свет, из которого сотканы мечты, облако, разрываемое неистовыми ветрами — любовью, ненавистью, воображением, случаем, Богом… Самый великий пророк сможет дать людям только плетение словес и чем величавее пророк, тем менее точно будет его предсказание».
Зорба смотрел на меня с насмешливой улыбкой. Я был зол.
— Я знаю такой, — ответил я уязвленно.
— Ну-ка, расскажи!
— Не стану я тебе рассказывать, ты все равно не поймешь.
— Эх! Ты так говоришь, потому что у тебя его нет! — сказал Зорба, покачав головой. — Ты не думай, что я белены объелся, хозяин. Если тебе об этом сказали, то тебя обманули. Я, возможно, такой же невежда, как дядюшка Анагности, но я и не так глуп. Э! Нет! Если я, по-твоему, не могу понять, почему же ты хочешь, чтобы поняли они, этот жалкий старик и его придурковатая жена, да и все остальные Анагности? Все они в твоем будущем увидят только мрак. Нет уж, оставь им их старый мир, они к нему привыкли, ладят с ним пока, не так ли? Одним словом, они живут и живут неплохо, плодят детей и даже внуков. Бог делает их глухими и слепыми, а они кричат: «Хвала Господу». Они в нищете чувствуют себя непринужденно. Поэтому оставь их в покое и помолчи.
Я замолчал. Мы проходили мимо сада вдовы. Зорба на мгновение остановился, вздохнул, но ничего не сказал. Должно быть, где-то шел дождь. Запах земли, полный свежести, наполнял воздух. Показались первые звезды. Народившаяся зеленовато-желтая луна мягко сверкала, небосвод до краев был наполнен негой.
«Этот человек, — думал я, — необразован, но обладает светлым умом. Душа его нараспашку, у него доброе сердце, он много повидал, однако не растерял свою изначальную отвагу. Все эти сложные проблемы, неразрешимые для нас, он решает одним махом, словно разрубает мечом, как это делал его соотечественник Александр Македонский. Его невозможно сбить с пути, потому что он всем своим существом сросся с этой землей. Африканские дикари обожествляют змей за то, что они всем телом распластываются по земле и посему, якобы, знают все тайны мироздания. Змея познает мир своим туловищем, хвостом, головой, бесшумно извиваясь, она сливается воедино с матерью-землей. То же происходит с Зорбой. Мы же, образованные люди, не что иное, как птицы, опьяненные воздухом».
Звезд на небе все прибавлялось. Невыразимо холодных и равнодушных, без всякого сочувствия к людским страстям.
Больше мы не говорили. С восторгом смотрели мы на небо, наблюдая, как на востоке ежесекундно зажигаются новые звезды, распространяя вселенский пожар.
Мы вернулись к себе в хижину. У меня не было ни малейшего желания есть и я уселся на скале у моря.
Зорба разжег огонь, поел и, казалось, готов был присоединиться ко мне, но, передумав, улегся на свой матрас и заснул.
Море было спокойно. Застывшая под россыпью звезд земля тоже молчала. Не было слышно ни лая собак, ни жалоб ночных птиц. Но тишина казалась обманчивой, я ощущал это лишь по току крови, стучавшей в висках и на шее.
«Мелодия тигра!» — подумал я с дрожью. В Индии с наступлением ночи люди низкими голосами поют печальную песню, дикую и монотонную, напоминающую отдаленное рычание хищников — мелодию тигров. Человеческое сердце преисполняется трепетом ожидания.
Я думал об этой ужасной мелодии и пустота в моей груди, которую я ощущал, стала мало-помалу наполняться. Слух мой пробудился, и тишина обернулась криком. Я наклонился и, зачерпнув ладонями морскую воду, смочил себе лоб и виски. Мне полегчало. В глубине моего существа продолжали раздаваться смутные, нетерпеливые, угрожающие крики — тигр находился внутри меня, он рычал.
Внезапно я ясно услышал голос.
— Будда! Будда! — закричал я, резко выпрямившись. Я пошел быстрым шагом вдоль кромки воды, будто хотел убежать от самого себя. С некоторых пор едва я остаюсь ночью один, в полной тишине, как слышу его голос — сначала печальный, умоляющий, постепенно он все больше раздражается, начинает даже реветь. Наступает момент, когда он словно брыкается в моей груди — ребенок, время которого подошло.
Видимо, наступила полночь. Небо застлало черными тучами, на мои руки упали крупные капли, но я не обращал на это внимания. Погрузившись в раскаленную атмосферу, я чувствовал на своих висках языки пламени.
«Час пробил, — думал я с дрожью, — колесо Будды подхватило меня, пришло время освободиться от чудесной ноши».
Я быстро вернулся в хижину и зажег огонь. Зорба заморгал глазами от яркого света, увидя меня, склонившегося над бумагами. Он что-то неразборчиво проворчал, отвернулся к стене и снова погрузился в сон.
Я торопливо писал. «Будда» находился во мне, наподобие разматывающейся в моем сознании голубой ленты, испещренной знаками. Лента быстро ускользала и я спешил, чтобы угнаться. Все стало легко и просто, я даже не сочинял, а лишь запечатлевал богатство, рожденное воображением. Весь мир раскрылся передо мной, он сострадал, отрекался, пел; в нем было все — дворцы Будды, женщины в гаремах, золотые кареты, три роковые встречи: со стариком, больным и смертью; была пережита пора бегства, аскетизма, освобождения и наконец пришло спасение. Земля покрылась желтыми цветами, нищие и короли одели желтые одежды, камни, леса и вся другая плоть стали невесомыми. Души превратились в песни, сознание же самоуничтожалось. Пальцы мои устали, но я не хотел, не мог остановиться. Воображаемые картины проносились в мгновенье ока, мне надо было торопиться.
Утром Зорба нашел меня уснувшим, голова моя лежала на рукописи.
6
Когда я проснулся, солнце уже поднялось достаточно высоко. От долгого сна моя правая рука так онемела, что я не мог согнуть пальцы! Буддийская буря прошлась по мне, принеся усталость и пустоту.
Я нагнулся, чтобы собрать упавшие на полулисты. У меня не было ни сил, ни желания их просмотреть. Словно все это бурное вдохновение было только сном, который я, униженный словами узник, не хотел видеть.
В этот день шел мелкий, бесшумный дождь. Перед уходом Зорба разжег жаровню, и я весь день просидел, поджав ноги и грея руки над огнем, без пищи, лишь слушая, как тихо падают капли дождя.
Я ни о чем не думал. Мой мозг, скатанный в шар, будто крот в размокшей земле, отдыхал. Я слышал легкие движения, глухой рокот земли, шум дождя и набухание зерен в почве. Казалось, что небо и земля сливаются, наподобие того, как в первобытную эпоху соединялись мужчина и женщина и плодили детей. Вдоль берега бушевало море, напоминая хищного зверя, лакающего воду.
Когда мы живем в счастье, мы с трудом ощущаем его. Лишь оглянувшись назад мы зачастую с удивлением вдруг понимаем, насколько были счастливы. Я же был счастлив на этом критском берегу и осознавал это.
Огромное темно-синее море раскинулось здесь до африканских берегов. Часто дул горячий южный ветер, ливиец, налетавший из далекого края раскаленных песков. По утрам море благоухало арбузом; в полдень оно парило, чуть колыхаясь, как едва наметившаяся грудь. Вечером оно вздыхало и окрашивалось в розовый, винный, лиловый и темно-синий цвета.
После обеда я развлекался, наполняя ладонь тонким белым песком, чувствуя, как он, теплый и мягкий, скользит между пальцев. Рука, как песочные часы, из которых убегает и где-то теряется жизнь. Пусть теряется, а я любуясь морем, наконец-то понимаю философию Зорбы и чувствую, как мои виски ломит от счастья.
Это напомнило мне мою младшую племянницу Алку, четырехлетнюю девочку: однажды мы накануне Нового года разглядывали витрину игрушечного магазина, она повернулась ко мне и произнесла изумительную фразу: «Дядюшка Людоед, я такая счастливая, у меня будто рога выросли!» Я был поражен. Какое чудо эта жизнь и как все души, несмотря на глубоко уходящие корни, в сущности, родственны.