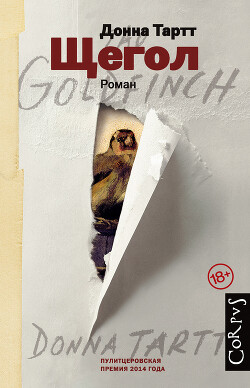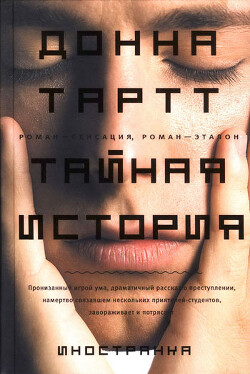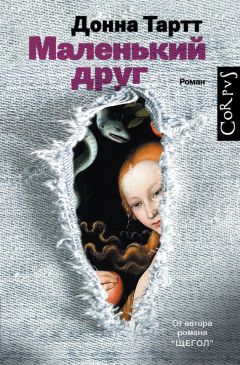— Интересно, где он?
— Дома, в душе намывается.
— Библию читает!
— Смотрит по телику «Рождественскую историю»!
— Да просто адрес перепутал и ждет где-то в другом месте!
— Я… — горло у меня так сжималось, что я постоянно сглатывал, когда говорил. — А тот мальчишка?
— А? — Пошел дождь, тоненькие струйки шуршали по лобовому стеклу. Черные, блестящие улицы.
— Какой мальчишка?
— Ну, мальчик. Девочка. Поваренок. Кто-то в общем.
— Чего? — Вишня обернулся — угар еще не сошел, дышит тяжело. — Я никого не видел.
— И я не видел.
— А я видел.
— И что за девочка?
— Молоденькая. — У меня перед глазами до сих пор стояло юное, призрачное личико, полуоткрытый рот. — Белый халат. На японку похожа.
— Правда? — с любопытством спросил Борис. — Ты их по лицам различаешь? Понимаешь, откуда они? Из Японии, Китая или Вьетнама?
— Ну, как следует я не разглядел. Азиат.
— Так мальчик или девочка?
— Мне кажется, у них на кухне только девочки работают, — сказал Юрий. — Макробиотика ведь. Бурый рис и все такое.
— Я… — Вот теперь я уже сам запутался.
— Ну, — Вишня провел рукой по волосам, остриженным в плотный ежик, — мальчик, девочка, а молодец, что она смылась, потому что я, знаете, что еще там нашел? Пятисотый «моссберг» с отпиленным дулом.
Хохот, присвистывание.
— Твою ж мать.
— Где он был? Гроздан ведь не?..
— Нет. В… — он поводил рукой в воздухе, обрисовывая петлю, — как это называется? Висел под столом, в какой-то тряпке. Я на пол опустился, только тогда его и заметил. Поднимаю голову — оп-па. Висит прямо у меня над головой.
— Но ты ж его там не оставил?
— Нет! Я б с радостью его забрал, только он такой здоровый, а у меня и так уже все руки были заняты. Я его развинтил, вытащил предохранитель и выкинул его на улицу. И кстати, — он вытащил из кармана серебряный тупоносый пистолетик и протянул его Борису, — еще вот что!
Борис поднес его к свету, стал разглядывать.
— Симпатичный карманный «смит-вессон». У него под клешами кобура была спрятана, на лодыжке. Но, к сожалению, двигался он вяловато.
— Наручники. — Юрий чуть наклонил ко мне голову. — Витя все продумывает.
— Короче, — Вишня вытер пот с широкого лба, — они маленькие, легкие, удобно при себе держать, много раз меня выручали, если стрелять надо было. Я особо не люблю никого ранить без надобности.
Средневековый город: кривые улочки, свисают с мостков огоньки, отражаются в присыпанных дождиком каналах, расплываются под легкой изморосью. Бесконечные безымянные магазины, переливающиеся витрины, белье и пояса с подвязками, кухонные приборы разложены, будто хирургические инструменты, повсюду — непонятные слова, Snel bestellen, Retro-stijl, Showgirl-Sexboetiek [73].
— С черного хода дверь была открыта, — сказал Вишня, выпутываясь из спортивной куртки, прикладываясь к бутылке водки, которую Ширли Т вытащил из-под переднего сиденья, руки у него слегка тряслись, а лицо — и сильнее всего нос, как у олененка Рудольфа — пылало ясной, горячечной краснотой. — Наверное, для него открыли — для третьего, чтоб он сзади зашел. Я закрыл дверь, запер то есть, велел Гроздану закрыть ее и запереть, приставил пушку ему к голове, он пускал сопли, хныкал как маленький…
— «Моссберг» этот, — сказал мне Борис, взяв бутылку, которую ему передали с переднего сиденья. — Это очень плохо, очень нехорошо было. Если ствол отпилен — пули отсюда до Гамбурга полетят. Даже, блядь, если ни в кого не целиться, все равно кругом каждый второй поляжет.
— А неплохо придумано, да? — философски заметил Виктор-Вишня. — Сказать, значит, что третий их человек задерживается. «Подождите-ка, пять минут!» «Простите, заминочка вышла…» «Он сейчас будет, щас-щас». А этот третий, значит, уже сидит себе в подсобке с ружьем. Нормально подстраховались, если такая у них была задумка…
— Может, так оно и было. С чего бы им тогда там ружье прятать?
— Похоже, мы чудом не вляпались, вот что я вам скажу…
— Там подъезжала тачка, остановилась у входа, мы с Ширли напугались, — сказал Юрий, — вы там все еще были, выходят двое парней, мы думаем — ну все, мы в говне по уши, но нет, просто два француза каких-то ресторан искали…
— …там никого не было, слава богу, я уложил Гроздана на пол, приковал его наручниками к батарее, — говорил Вишня. — А, кстати!.. — Он вытащил сверток. — Самое-то важное. Вот. Это тебе.
Он передал сверток Юрию, а тот — осторожно, одними кончиками пальцев, будто держал поднос, который боялся опрокинуть — передал его мне. Борис сглотнул водку, вытер рот рукой и весело постучал меня бутылкой по руке, напевая счастливого Рождества-а, счастливого Рождества…
И вот сверток у меня на коленях. Я провел пальцами по краям. Войлок был такой тонкий, что я сразу — кончиками пальцев — почувствовал: да, оно, то самое, и вес, и плотность — все, как и должно быть.
— Давай, — кивнул Борис, — разверни уж, убедись, что там не учебник по основам государства и права! Где она была? — спросил он Вишню, когда я принялся развязывать бечевку.
— В грязном чуланчике со швабрами. В какой-то дерьмовой пластмассовой папке. Гроздан мне показал. Я боялся, что он начнет выебываться, но пушка у виска его вразумила. Ему подыхать нет смысла, еще не все пирожки с гашишем сожрал.
— Поттер, — сказал Борис, пытаясь привлечь мое внимание, потом повторил: — Поттер!
— Что?
Он поднял сумку.
— Эти сорок кусков я отдам Юрию и Ширли Т. Кину им на карман капусты. За оказанные услуги. Потому что только благодаря им мы не заплатили Саше ни цента за то, что он такой молодец и спер твое имущество. А с Витей, — он вытянул руку, пожал его, — мы теперь в расчете и даже больше. Должок за мной.
— Нет, Боря, я перед тобой в вечном долгу.
— Забудь. Ерунда.
— Ерунда? Ерунда? Неправда, Боря, я сегодня ночью сижу тут живой и здоровый только благодаря тебе — и каждую ночь, до самой моей последней ночи, я буду об этом помнить…
Он рассказывал интересную историю, я, правда, слушал его вполуха — кто-то повесил на Вишню какое-то преступление, которого он не совершал, вообще никакого к этому отношения не имел, кругом невиновен, что за преступление, я не понял, но, похоже, серьезное, тот мужик стучал направо и налево, чтоб скостить себе срок, и Вишне — разве что он тоже решился бы стукануть на свое начальство («было бы очень глупо, жить-то еще хотелось») — светила десяточка, но Борис, Борис его спас, потому что Борис отыскал эту мразь — сидел себе в Антверпене, вышел под залог, — и история о том, как он все это проделал, была очень эмоциональной, живой, и вот у Вишни уже перехватывает горло, и он слегка расчувствовался, но история все не кончалась, и в ней уже фигурировали и поджог, и кровопролитие, и — каким-то боком — бензопила, но тут я уже не слышал ни единого слова, потому что наконец развязал бечевку, и вот — огни фонарей и водянистые отсветы дождя катятся по холсту моей картины, по моему щеглу, который — бесспорно, без всяких сомнений, и на задник можно было не смотреть — был подлинным.
— Видишь? — Борис прервал Витю в самый разгар истории. — Неплохо выглядит твоя zolotaia ptitsa, да? Говорил же, мы с ней аккуратно обращались.
Я, не веря своим глазам, провел пальцем по краю картины, словно Фома Неверующий — по ладони Христа. Любой торговец антикварной мебелью — или уж если на то пошло, святой Фома — знал: зрение обмануть куда проще, чем осязание, и теперь, даже спустя столько лет, мои руки так хорошо помнили картину, что сразу потянулись к следам от гвоздей, к крохотным дырочкам в самом низу доски — когда-то (давным-давно, как говорится) картина висела вывеской на таверне или, может, украшала расписной комод, кто знает.
— Он там жив еще? — Это Виктор-Вишня.
— Да вроде как. — Борис ткнул меня локтем под ребра. — Эй, скажи что-нибудь.
Но я не мог. Картина была настоящей, я это знал, знал — даже в темноте. Выпуклые желтые полосы краски на крыле, перышки прочерчены рукояткой кисти. В верхнем левом краю — царапина, раньше ее там не было, крохотный дефектик, миллиметра два, но в остальном — состояние идеальное. Я переменился, а картина — нет. Я глядел, как лентами на нее ложится свет, и меня вдруг замутило от собственной жизни, которая по сравнению с картиной вдруг показалась мне бесцельным, скоротечным выбросом энергии, шипением биологических помех, таким же хаотичным, как мелькающие за окнами огни фонарей.