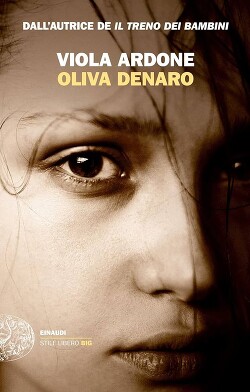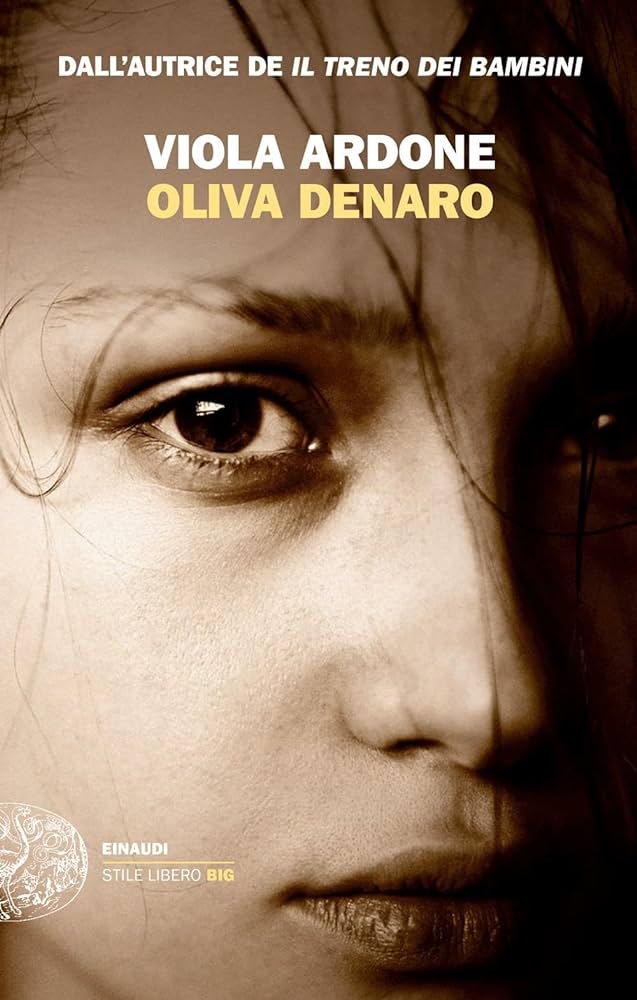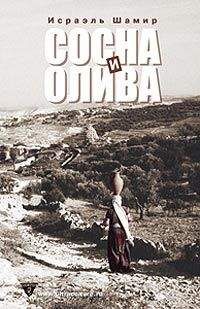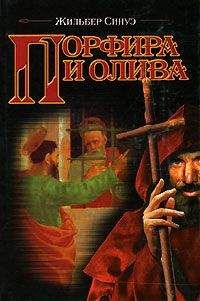2.
После того раза мы с отцом больше ничего не красили. Мать говорит, это она виновата, что ко мне до сих пор маркиз Менархе не явился: мол, растила меня, как мальчишку. Маркиз Менархе мне по не душе: видала его только раз и страшно перепугалась. Зашла как-то утром, после завтрака, в ванную и обнаружила в тазу кучу тряпок, все в красных пятнах, и вода вокруг бурого цвета, будто бы там кроликов резали.
– На что глазеешь? – это мать входит. Я от таза отошла, молчу. А она воду слила и принялась тряпки мыльным камнем тереть, пока они снова не побелели: – Это маркиз Менархе, – говорит. – В один прекрасный день и твой черёд настанет.
И я стала молиться, чтобы этот день никогда не наступил.
Правила маркиза Менархе таковы: ходить, не поднимая глаз, слушаться беспрекословно, из дома не выходить. Но пока он не явился, мне можно работать в огороде, ходить с отцом на рынок торговать травами, лягушками и улитками, пуляться из рогатки камнями в мальчишек всякий раз, когда они задирают моего друга Саро, у которого одна нога хромая, бегать по шоссе взапуски с Козимино, а домой потом возвращаться потной и с грязными коленками. Всех моих подруг маркиз уже посетил: с той поры их юбки стали длиннее, на лицах то и дело высыпают прыщики, а под блузками проявилась грудь. У Крочифиссы даже выросли усики, и мальчишки стали дразнить её «разбойником Музолино»[1]. Но она не слушает, а только ходит со страдальческим видом, сложив руки на животе, словно беременная, и без конца задаёт подружкам один и тот же вопрос: «У меня кровь уже идёт, а у тебя?» – будто приз какой выиграла.
А к мальчишкам маркиз не является. Они вообще не такие, как мы: даже взрослыми становятся потихоньку, а не одним махом.
Раньше мои одноклассницы возвращались из школы одни, теперь их всегда поджидает кто-нибудь из родственников. Встречаясь с мужчинами на улице, они опускают взгляд, хотя прекрасно знают, куда те пялятся: прямиком на пуговицы, туго натягивающие ткань. Потому и смотрят в землю, зато плечи расправляют так, что едва швы не лопаются. Чопорные, как отцовские куры.
Моя сестра, что на четыре года меня старше, тоже чопорной была, пока замуж не вышла. Родители назвали её Фортунатой, чтобы счастливой была, да только кончилось её счастье. Светлокожая и светловолосая, в отца, когда она выходила на улицу, все мужчины на неё оборачивались: и чем больше они глазели, тем чопорнее она держалась, а чем чопорнее она держалась, тем больше они глазели. Это я знаю не понаслышке: приглядывала за ней, пока Козимино шлялся Бог знает где. Сегодня поглазеют, завтра поглазеют, ну, и доглазелись до того, что в утробе у неё ребёнок завёлся. Сунул его туда, как выяснилось, племянник мэра, Геро́ Мушакко: это я подслушала, когда Фортуната с отцом и матерью после ужина ушли в кухню посекретничать вполголоса. Хотя какие тут секреты, если вся Марторана знает.
Отец Геро Мушакко не хотел, чтобы сын женился на Фортунате, мы ведь бедняки. Сестра рыдала, мать стучала кулаком по столу и сыпала проклятиями на калабрийском, то и дело причитая: «Не дай Бог ты меня опозоришь!» Отец молчал: молчание мне по душе. «Бери лупару[2] да иди с ней к Мушакко потолковать, с лупарой-то!» – не отставала мать. А он налил себе воды, не спеша выпил, утёр рот салфеткой, встал из-за стола, сказал только: «Пожалуй, нет», – и снова пошёл в огороде копаться. И с того дня месяц ни с кем не разговаривал, кроме разве что моего брата, который был тогда ещё мальчишкой и мало о чём задумывался.
Я винила себя, поскольку однажды, вместо того, чтобы приглядывать за Фортунатой, пошла в гости к Саро поесть пасты с анчоусами, которую его мать, Нардина, готовит специально для меня. Такие лакомства мне по душе. Тогда-то Геро, должно быть, и воспользовался возможностью сунуть ей ребёнка в живот.
Как-то поутру мать вышла из дома в праздничном платье, а вернулась затемно. На следующий день Фортуната проснулась ещё до зари и села вышивать пару вязаных белых пинеток. Отец поглядел-поглядел, как она работает, потом спросил: «Пойдёшь за того синьора?» Сестра кивнула и снова потянула нитку с катушки. Через два месяца сыграли свадьбу, и с этого момента комната была предоставлена в полное моё распоряжение.
Правила свадьбы таковы: надеть белое платье, подойти к алтарю и сказать священнику «да». Во время застолья синьора Шибетта, что живёт в богатом доме, куда мы с матерью ходим каждый год вытрусить матрасы и кое-что заштопать, разболтала всем и каждому: мол, отец Геро Мушакко в конце концов согласился только потому, что получил письмо от кузины, баронессы Карери, с которой связался приходской священник, дон Иньяцио, которого об этом попросила его экономка Неллина, приходившейся Фортунате крёстной, которую, в свою очередь, удалось убедить моей матери в тот самый день, когда она рано ушла из дома.
Новобрачная старательно делала вид, что не слышит пересудов, но тут уж не отвертишься. От былой чопорности не осталось и следа: швы подвенечного платья, казалось, вот-вот лопнут, только вовсе не на груди, а там, где белое кружево распирал крупный спелый арбуз. После свадьбы Фортуната переехала к Мушакко. Я не видела сестру месяца три, пока однажды утром Неллина не обнаружила её в ризнице, уже без живота и с перекошенным от боли лицом. Младенца при ней не было, а на руках и лице синели кровоподтёки: сказала, что упала с лестницы. Экономка немедленно сообщила обо всём баронессе, которая нажаловалась кузену, и тот велел сыну впредь поберечь жену. Фортуната вернулась домой, надела чёрное платье и так до сих пор его и не сняла. Гостей она не принимает и сама никуда не выходит, так что, по крайней мере, не рискует снова упасть. Геро же, напротив, целыми днями развлекается, в одиночку или в компании, словно так и остался холостяком, а проходя на улице, пялится на каждую встречную девушку, будто и в них хочет сунуть ребёнка.
3.
Меня у школы никто не ждёт. Из всех одноклассниц без сопровождения ходит ещё только Лилиана, но это дело другое, поскольку её отец, синьор Кало́, – единственный в городе коммунист. Синьора Фина, его жена, работает, как положено мужчинам, а его совершенно не волнует, что люди шепчутся, будто он не может содержать семью.
Моя мать говорит, хоть Кало носит бороду, очки и вообще выглядит образованным, но на самом деле просто шут гороховый: едва восемь классов окончил. Он просто помешан на общении с людьми и каждый второй четверг месяца устраивает собрания в старом сарае для рыболовных сетей на окраине города, у самого моря, чтобы обсудить проблемы Мартораны, будто это что-нибудь изменит. А только мир как стоял, так и стоит. Сколько языком ни мели, муки не будет. Так мать говорит.
Зато Лилиане от отцовского коммунизма сплошной выигрыш: можно сколько угодно гулять без сопровождающих, носить брюки, как мальчишки, читать фотороманы или журналы с колонками советов и фотографиями звёзд кино. А я вот в жизни ни единого фильма не видела: мать говорит, от кино один ветер в голове. Остаётся мне довольствоваться разглядыванием уличных афиш и срисовыванием фотографий в тетрадку, да и то тайком. Ещё Лилиана запросто болтает с мужчинами наедине, так что мне нельзя с ней общаться, поскольку она девушка легкомысленная. Но из всего класса только у нас с ней нет сопровождающих, и после школы мы проходим часть дороги вместе. Поначалу я не желала с ней даже словом перемолвиться, но потом она показала журнал с фотографией «красавчика Антонио» – того, из фильма[3]. Я спросила, нельзя ли полистать, потому что от вида «красавчика Антонио» у меня мигом становится тепло в животе, а она не заставила себя упрашивать, просто подарила и сказала: мол, хорошими вещами нужно делиться, так учит нас коммунизм. И коммунизм сразу пришёлся мне по душе.
Журнал я сунула под блузку, а вернувшись домой, спрятала за отошедшей доской в изголовье кровати, где хранила тюбик c остатками помады, который однажды нашла в школьной уборной, и тетрадку, куда срисовывала портреты звёзд кино.