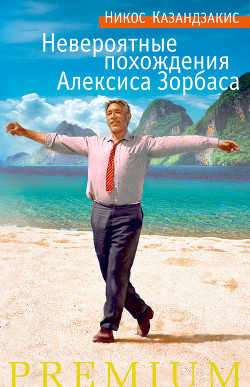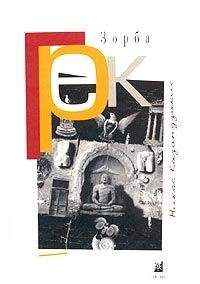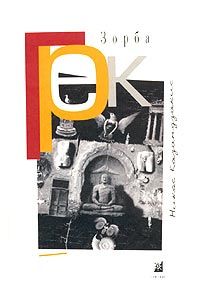Я посмотрел на свои часы, было десять.
— Сейчас время перекусить, друзья, — сказал я, — вы даже переработали.
Рабочие тотчас бросили в угол свой инструмент и вытерли пот, готовясь выйти из галереи. Зорба, весь предавшийся работе, не услышал. Возможно он и слышал, но даже не обернулся. Обеспокоенный, он снова напрягал слух.
— Подождите, — сказал я рабочим, — давайте закурим! Я стал шарить по карманам, рабочие стояли вокруг меня в ожидании.
Внезапно Зорба вздрогнул. Он прижался ухом к стенке штрека. При свете ацетиленовой горелки я различал его судорожно раскрытый рот.
— Что с тобой, Зорба? — воскликнул я.
В это мгновение содрогнулась над нашими головами вся кровля выработки.
— Бегите! — крикнул Зорба хриплым голосом. — Бегите!
Мы ринулись к выходу, но не успели добежать до первых укрепленных участков галереи, как над нами послышался более сильный треск. В это время Зорба поднял большое бревно, чтобы укрепить им осевшую кровлю. Если он успеет сделать это, те несколько секунд, возможно, спасут нас.
— Бегите! — вновь раздался голос Зорбы, на этот раз приглушенно, словно исходил из чрева земли. Мы все с малодушием, которое часто овладевает людьми в критические минуты, бросились наружу, забыв про Зорбу. Но уже через несколько секунд я взял себя в руки и кинулся к нему.
— Зорба, — звал я, — Зорба!
Мне казалось, что я кричал, однако крик так и не вырвался из моего сдавленного страхом горла. Меня охватил стыд. Я отступил назад и протянул руки. Зорба успел установить толстую подпорку. Поскользнувшись в полумраке, влекомый инстинктом самосохранения, он рванулся к выходу и наткнулся на меня. Невольно мы бросились друг другу в объятия.
— Бежим! — прорычал он сдавленным голосом. — Бежим!
Мы бросились бежать и выскочили наружу.
Столпившиеся у входа побледневшие рабочие молча вслушивались.
В третий раз послышался шум, еще более сильный, чем раньше, похожий на треск поваленного бурей дерева. И тут же раздался чудовищный гул; прогрохотав, словно раскат грома, он потряс гору и кровля галереи обрушилась.
— Господи помилуй! — зашептали рабочие, крестясь.
— Вы что, бросили свои кайла в шахте? — гневно крикнул Зорба.
Рабочие смолкли.
— Почему вы их не захватили? — снова крикнул он сердито. Ничего себе, храбрецы, небось наложили в штаны! Жаль инструмент!
— Подходящая минута, чтобы думать о кирках, Зорба, — сказал я возмущенно. — Радоваться надо, что никто не пострадал! Тебе, Зорба, надо свечку поставить, только благодаря тебе все живы.
— Мне что-то есть захотелось! — ответил Зорба. — Мне всегда хочется есть в такие минуты. Он взял свою сумку с едой, развязал ее, положил на камни и достал хлеб, оливки, лук, вареный картофель и фляжку с вином.
— Давайте же закусим, ребята! — сказал он, с набитым ртом. Старый грек глотал жадно и торопливо, будто вдруг потерял много сил. Он молча ел, сгорбившись, потом, взяв фляжку, запрокинул голову и стал лить вино в пересохшую глотку.
Немного осмелев, рабочие раскрыли свои сумки. Скрестив ноги, они сели вокруг Зорбы, и, глядя на него, начали есть. Люди хотели бы припасть к его ногам, целовать ему руки, но, зная его причуды и резкость, никто не осмеливался начать первым.
Наконец Михелис, он был старше всех и носил густые поседевшие усы, решился и заговорил.
— Если бы тебя не было там, мастер Алексис, — сказал он, — наши дети в одночасье стали бы сиротами.
— Заткнись! — ответил Зорба с полным ртом и никто больше не осмелился сказать ни слова.
«Кто же создал этот лабиринт сомнений и в то же время высокомерия, этот сосуд, наполненный грехом, поле, засеянное тысячью уловок, эти ворота ада, чашу, переполненную коварством, яд, похожий на мед, цепь, которая приковывает смертных к земле, — женщину?»
Я медленно переписывал эту буддистскую песнь, сидя на земле у горящей жаровни. С пристрастием нагромождал я один экзорцизм на другой, изгоняя из своего сознания некую фигуру под дождем, которая, покачивая бедрами, вновь и вновь проносилась предо мной во влажном воздухе в течение всех этих зимних ночей. Не знаю, каким образом, но сразу после катастрофы на шахте, когда моя жизнь могла внезапно оборваться, вдова вновь заставила бурлить мою кровь; она вопила, наподобие дикого зверя, властная и полная укора.
— Иди, иди ко мне! — взывала она. — Жизнь — это как вспышка молнии. Иди скорее, иди же, пока еще не слишком поздно!
Мне было хорошо известно, что это была Мара, дух Зла в обличье женщины с мощным задом. И я боролся. Я вновь обратился к рукописи «Будда» подобно тому, как дикари заостренным камнем выцарапывали или рисовали в своих пещерах красной и белой краской хищных изголодавшихся животных, рыскавших вокруг их жилищ. Дикари пытались таким путем остановить их там, на скалах, ибо были уверены, что иначе хищники набросятся на них.
С того дня, когда я мог погибнуть, вдова частенько проплывала в раскаленной атмосфере моего одиночества и давала мне знак, сладострастно покачивая бедрами. Днем я еще был силен, мозг мой бодрствовал и мне удавалось изгнать ее из сознания. Я писал, в какой форме Искуситель представал перед Буддой, как он переодевался женщиной, как он прижимался упругой грудью к коленям аскета, наконец, как Будда, чувствуя опасность, призывал к бдительности все свое существо и обращал злой дух в бегство. Мне это тоже удавалось сделать.
С каждой написанной фразой я чувствовал все большее облегчение, набирался смелости, мне казалось, что зло отступает, изгоняемое всемогущим экзорсизмом. В течение дня я боролся изо всех сил, ночью же мое сознание складывало оружие, раскрывались потайные двери, и вдова беспрепятственно входила.
Утром я просыпался изнуренный, побежденный, чтобы вновь начать борьбу. Иногда я поднимал голову, это бывало к концу дня; дневной свет убегал, словно его преследовали, меня внезапно окутывал мрак. Дни становились все короче. Приближался Новый год, а я продолжал упорно бороться и говорил себе: «Я не один, великая сила — свет — тоже сражается, то отступая, то побеждая, она не теряет надежду. Я борюсь и надеюсь вместе с ней!»
Мне казалось (и это придавало мне смелости), что ведя борьбу с соблазном, я тоже своеобразно подчиняюсь великому земному ритму. «Именно это пышное тело, — думал я, — было выбрано коварным случаем, чтобы постепенно лишить меня свободы, к которой я так стремился в последнее время». Вот так мучительно я силился превратить свое неистовое желание тела вдовы в страницы рукописи «Будда».
10
— О чем ты думаешь? Ты будто не в своей тарелке, хозяин, — как-то вечером накануне Нового года сказал мне Зорба, подозревая о демоне, с которым мне приходилось бороться.
Я сделал вид, что не расслышал. Но старый грек не оставлял поле битвы так легко.
— Ты молод, хозяин, — сказал он.
Вдруг тон его переменился, стал горьким и раздраженным:
— Ты молод, здоров, хорошо, с аппетитом ешь и пьешь, дышишь морским воздухом, который подкрепляет, накапливаешь силы, но что ты с ними делаешь? Спишь в одиночестве. И это печально! Послушай-ка, отправляйся туда сегодня же вечером, не теряй времени, все просто в этом мире, хозяин. Сколько раз тебе повторять! Не усложняй ты все на свете! Передо мной была раскрытая рукопись «Будды», которую я листал. Слова Зорбы открывали верный путь, дух Мары, коварный посредник, также призывал к этому.
Решив противостоять, я молча слушал, медленно перелистывая рукопись и насвистывая, стараясь скрыть свое волнение. Но Зорба, видя, что я продолжаю отмалчиваться, взорвался:
— Сегодня вечером, в эту новогоднюю ночь, старина, поторопись же, сходи к ней до того, как она уйдет в церковь. В этот вечер родился Христос, хозяин, сотвори же чудо и ты, ты тоже!
Я с раздражением встал.
— Хватит, Зорба. Каждый идет своим путем. Человек, знай это, похож на дерево. Ссорился ли ты когда-нибудь с инжирным деревом из-за того, что оно не родит вишен? Ну так замолчи же! Уже скоро полночь, пойдем-ка мы тоже в церковь посмотреть на Рождество Христово.