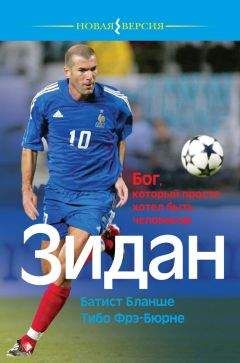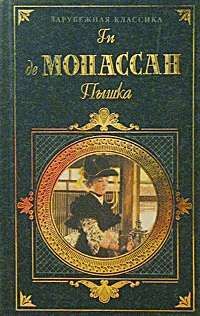Сегодня утром деревушка почти пустынна, ее жителей засосали другие долины, более процветающие, более открытые миру, утащили на день или на неделю работы. А кто-то не вернется совсем. Самый знаменитый из тех, что не вернулись, — по словам мэра, готового вещать любому, имеющему уши, — это его кузен по линии каполунгской родни, который уехал в Америку и очень преуспел в «Олиуде». Так, во всяком случае, утверждает сам кузен в длинных письмах, приходящих в родную деревню. И даже если все не совсем так, даже если он привирает, рассказывая про тамошние бульвары, такие широкие, что, пока их перейдешь, забудешь, куда шел, или про женщин, которые никогда не старятся; даже если он живет впроголодь и вкалывает на стройке — кладет камни, как все местные парни, — все равно: уехать отсюда — уже удача.
Я хорошо знаю Америку. Я скучаю по ней. Здесь вокруг лишь зной, слегка припудренный тенью. Эта долина — как рана в горе, след вечной распри воды и камня. Пахнет церковью, ветром в колоколах, потемневшей бронзой и крестами, лежащими в траве. Хочется тишины, но ухо буравит непрерывное журчание: это под спудом бурлит поток среди зелени мяты, которую прорезают замшелые ступени. Надо быть сумасшедшим, чтобы туда полезть.
Детей я не видел. Либо они шагают по коридорам далеких пансионов, либо люди здесь рождаются стариками. Если б я был из местных, я бы тоже как можно дольше сидел во чреве матери. И вышел бы только, когда совсем перестал помещаться, в жеваном костюме, но радуясь, что сэкономил себе добрых двадцать или тридцать лет блуждания по этим серым откосам. А потом уехал бы отсюда, как кузен из Каполунго.
В десять часов — гнетущий зной. Большой платан рассеивает свет. Я один в сжатом кулаке горы, я прислонился к фонтану, опустив пальцы в воду. Все кажется бедным вокруг меня: воздух, земля — все. Чистая иллюзия. Сквозь века доносится голос, сочится из трещин, шепчет в неводе ветра. Где-то рядом — сокровище... Но сколько их, историй про сокровище? Никто и не вслушивается. Никто и не верит. Никто, кроме меня.
21 июля 1954-го.
В кабинете у мэра зазвенел единственный в деревне телефон. Мэр, на ту пору кормивший кур, пулей влетел в дом. И препоясался шарфом, чтобы лично сообщить мне оглушительную новость. Дневным автобусом к нам едет пассажир.
Умберто, наконец-то.
С тяжким вздохом гидравлики автобус высадил его и отправился в обратный путь — вниз, к морю.
После нескольких ночей здесь мне кажется, что оно мне привиделось. Мой друг не изменился: тот же вельветовый костюм и те же туристские ботинки, которые казались такими смешными двадцать лет назад, когда мы виделись в последний раз. Нет человека, который был бы настолько похож на пейзаж — его родные Доломиты. Умберто — это нависший над миром утес, нагромождение геологических слоев, которые сдвигаются с медлительностью материков. Улыбка ломает вертикальные прорези его лица. Огромная ручища хватает мою ладонь удивительно мягко, почти робко, хотя сегодня и он отзывается в Турине на громкий титул «профессоре».
Когда Умберто сдвинулся в сторону и за его плечами снова показалась долина, я обнаружил, что он не один. Рядом стоял молодой человек с улыбкой на лице. На заднем плане неспешно отъезжал автобус, его большой бампер слепил светом, и мальчик на золотом фоне казался персонажем, вывалившимся из фрески и потому немного ошарашенным.
— Петер, — представил его Умберто, — молодой ассистент из Туринского университета.
Я, как мог, скрыл гнев. Да, меня охватил гнев, одна из тех вспышек старой доброй ярости, которыми я славился всегда. Нет, конечно, я не просил, чтобы Умберто обязательно приезжал один. Я думал, ему и так понятно: дело важное. У нас уговор, может быть ребяческий, но все-таки уговор, куда не посвящают соседского мальчишку просто потому, что тот попался на глаза и вроде как скучал на своих качелях.
Я повернулся к Петеру и протянул руку:
— Рад познакомиться.
Первая же фраза, обращенная к этому мальчику, была ложью.
У Умберто синие ногти. У Петера синие ногти, и у меня, конечно, тоже. Мы провели детство сидя на корточках, шаря руками на известковых плато, просеивая горы, растирая пальцами породу в поисках плотного фрагмента. Знак посвященных, условный сигнал — вот эти обломанные ногти, обведенные траурной синевой, все оттенки которой — сизый, лазурный, чернильный — мы заработали, погружая руки в подземную ночь ископаемого континента.
На стуле, который гнется от его веса, сидит Умберто в ореоле фонтана и сжимает ручку кофейной чашки. Он ждет и молчит. Я звонил ему несколько недель назад: скажи, ты можешь уделить мне два месяца целиком? Он задал один-единственный вопрос, тот, что задают мне все в последнее время:
— Куда направляемся?
Я рассказал ему о горной впадине. Рекомендовал вести подготовку, не слишком привлекая внимание. Он не спросил меня почему, а только предупредил, что к середине сентября должен вернуться для какой-то небольшой хирургической операции. Во всем остальном я могу на него рассчитывать. Такой человек Умберто.
Рядом с ним искрит от нетерпения Петер.
Он узкий весь — телом, плечами, лицом, губой, отороченной рыжими усиками, которые так и хочется взять да сбрить начисто. Петер немец, направлен Марбургским университетом. Когда он что-то объясняет, а объясняет он все, ладони у него крутятся в запястьях, как сбрендившие подсолнухи.
— В пятнадцать лет я поступил в семинарию, jа? В семнадцать бросил семинарию и пошел в науку. Я думал, что встал на новый путь. И знаете, какое я выбрал направление?
Палеоклиматология. Palaiós — древний. Петер — историк, изучающий огонь и лед, влияние неба на землю, зверей и людей.
— По сути ничего не изменилось. Я, как прежде, целый день рассуждаю про гром небесный, пепел и серу!
Неистощим, если начнет говорить. И ценный новобранец, как я теперь понимаю.
— Для меня большая честь быть участником этой экспедиции, профессор...
— Стан.
— Стан. Я все думаю... Was suchen wir?
И действительно, что же мы ищем?
Честное слово, мне хотелось ответить, я даже слышал свои слова — отличный вопрос, молодой человек, мы ищем...
Муха жужжит и вязнет в густом воздухе моей комнаты. Развалившись на кровати, я слежу за ее борьбой. Если бы она умерла и упала точно на нужное место, в каплю смолы, и эта капля затвердела, окаменела и стала прозрачным и прочным куском янтаря, и этот янтарь пролежал бы несколько миллионов лет в укромном месте, чтобы сохраниться, но не настолько укромном, чтобы его никто не нашел, то тогда, в далеком будущем, эта муха могла бы многое поведать исследователю о тайнах нашего мира. Рассказать про фауну, флору, про небо 1954 года... А убить ее можно одним взмахом ладони.
— Все в порядке, Стане?
Умберто, просунув голову в щель, навис надо мной, как воздушный шар.
— Да, а что?
— Ты развернулся и ушел прямо посреди фразы. Петер места себе не находит.
— Ах, да.
Возможно, тайна моя слишком тяжела, чтоб ею можно было поделиться. Или это страх, — страх, что у меня украдут моего великана, что имя ему дам не я, а какой-то другой охотник с синими ногтями и острыми зубами.
— Tutto bene, Berti. Извинись перед Петером, ладно? Мне надо было прилечь. Просто разморило на солнце.
Умберто гулко смеется, бухает органными басами, от которых мой крошечный номер начинает походить на капеллу.
— Похоже, мы не молодеем! Но вот пойдем в горы, и будет все как в старое доброе время, — правда, Стане?
Да уж, все как в старое доброе время. Если б не наши нищенские зарплаты, не испорченные тусклыми лампами глаза да доклады, которые никто не слушает. А если я ошибаюсь, если моя гипотеза ложна, на этот раз не получится просто закрыть папку, сунуть ее в бумажный склеп и все начать сначала. На успехе этой экспедиции строится все мое будущее. Шикарный квартал, лепные потолки — все, понимаешь? Куда тебе, ты не можешь понять.