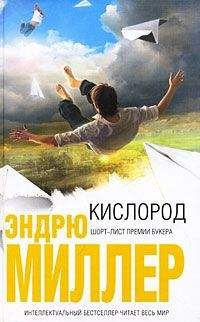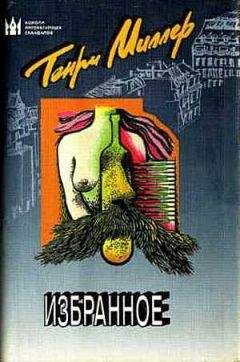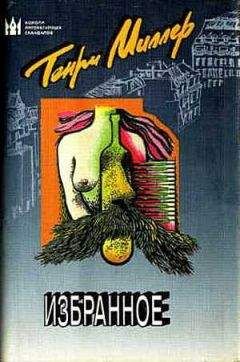– Можешь кончить внутрь.
Женщинам – уж он-то в курсе – доверять нельзя, но миг близок, и они двое как эти, как их, твари такие, фиг знает, у которых органы навеки срослись. Он орет:
– Бляха-муха! – вцепляется ей в клочковатые волосы, хватает, сколько получается ухватить. Три мощных спазма, и он выстреливает в нее. Потом еще десять толчков, чтобы все закончилось, чтобы пришла наконец желанная неподвижность, и оба задыхаются, как бегуны, первый краткий поцелуй, последний.
Они разлепляются. Одеваются. Она просит сигарету, он отвечает:
– Я тебе сверну парочку, чтоб на утро осталось.
Они вместе курят. По молчаливому уговору делают вид, будто того, что сейчас случилось, не случалось вовсе. Не то чтобы стыд. Может, просто понимают, что время не притупит неловкости, не придаст красоты. Друг к другу больше не притрагиваются. Он надевает ветровку, застегивает молнию под горло.
Она выходит с ним на палубу, стоит и смотрит, как он слезает в надувную лодку, устраивается, берет весла. Она бросает ему конец.
– Приветик, – говорит крановщик – и больше ничего. В темноте Мод его почти не различает. Лодку уносит течением. Весла плещут торопливо, пока он выбирается на курс, затем ровнее – удаляется.
В кают-компании Мод мерзнет. Моет один стакан, наливает воды, пьет. Опускает брандерщит, сдвигает крышку люка, запирает, опять снимает джинсы и заползает в «гроб». Есть чистое белье, в рундуке пять или шесть пар, но ей не до того, это все чепуха. Она выключает лампу над штурманским столиком и лежит на спине в темноте, натянув спальник до подбородка. Чуточная дрожь, чуточная боль – в основном ноют поясница и низ бедер. Мод согревается, дрожь почти унялась, почти приятна. Он ушел с полчаса назад, а она уже засыпает, уплывает в сумятице послеобразов, последствий, и тут вновь слышит шаги наверху – но тише, тише и легче. Легкие шаги по палубе. Легкие шаги переходят на крышу надстройки. Легкие шаги по крыше – замирают прямо над ее лицом. Может, конечно, и птица. Но чтобы птица села на палубу в темноте? Мод тянет руку, касается подволока, прижимает к нему пальцы.
7
На дворе воскресенье, делать на верфи вообще-то нечего, но Роберт Карри ставит машину на своем парковочном месте и идет туда, где двор резко обрывается в воду. Туман над рекой так густ, что подбрось монетку – потеряешь из виду, пока снова не упадет на ладонь. Проезжая вдоль мыса, Роберт Карри видел туман сверху: плато, туманная гладь, и вокруг, словно там уже все закончено, а остальное пока грезится, – зелень лесов и полей на холмах.
Вряд ли туман протянет долго. Поживи на побережье – усвоишь повадки этих туманов. Иногда держатся по полдня, но едва тончают, едва себе в нутро впускают солнце – сгорают за час.
Роберт Карри отступает от воды (засмотришься на туман – того и гляди начнешь чудить), идет к машине, прислоняется к дверце. На заднем сиденье в оранжевой сумке «Сейнсбери» лежит инвертор «Виктрон» – как прояснится, Роберт Карри доставит его на «Киносуру». Приятель приволок инвертор накануне вечером, и Роберт Карри уплатил ему из налички, которую хранит в холодильнике, в пластиковой папке. Приладить – дело нехитрое. Он уже придумал, куда его поставит. А между делом поговорит с ней, расспросит, что затеяла (если затеяла, в чем он уже сомневается). Говорить будет прямо – он это заслужил. Не отступится, выжмет из нее правду.
Если отойти от тумана подальше, уже тепло. Роберт Карри растирает шею, горло. С утра он побрился и не помнит, когда в последний раз брился в воскресенье. Даже чуть не капнул лосьоном из стеклянного флакона с пыльными плечами, но представил, как будет чуять себя в тесноте кают-компании, где от собственного запаха никуда не деться, – и оставил флакон на полке над раковиной. Название у лосьона дурацкое. Зачем вообще покупал – непонятно.
Мачты яхт у ближайшего понтона прояснились до верхних краспиц. Так и уходит туман – сверху и до самой воды, где несколько минут дымными клоками еще летают последние ошметки. Роберт Карри открывает дверцу, вынимает оранжевую сумку, смотрит на инвертор, достает из багажника аккумуляторную дрель и направляется к воротам, выходящим на понтоны. Набирает четырехзначный код, по косому настилу спускается туда, где стоит верфная моторка, жестко-надувная, с двухтактным подвесным двигателем. Обычно к ней привязана гребная лодка, но нынче утром лодки нет, что слегка удивительно, хотя такие лодки имеют свойство появляться и исчезать – они считаются как бы общественной собственностью. Ладно, Роберта Карри не касается – сегодня уж точно не до того. Он стоит на понтоне, следит, как рассеивается туман. Солнце нашарило все яхты у понтонов, река на двадцать ярдов от берега сверкает родником. Посреди реки туман всего упрямее. Роберт Карри прикрывает глаза ладонью, ждет. Из тумана взлетает птица, ловит солнце крыльями и на миг будто вспыхивает серебристым пламенем.
Роберт Карри уже различает мачту яхты на стоянке у городского берега – неплохой шлюп по имени «Афелий». За ним «Черная ведьма», а затем пока что призрачный парусно-моторный «Жаки». «Киносура» у «Жаки» за кормой, но туман ее еще не отдал. Роберт Карри ждет, отворачивается, чтобы в глазах не плыло, снова смотрит, пересчитывает лодки. Видит швартовную бочку «Киносуры» – серый шар, постепенно розовеет. «Киносуры» – ни следа. Роберт Карри стоит не шевелясь, пока внизу по реке не проступает топливная баржа, а вверху – изгиб берега и колокольня, эскизно прорисованная на фоне холмов вдалеке. Нет, он ничего не перепутал. И, в сущности, не сильно удивлен. Кивком и взмахом руки он любезно салютует воде, подхватывает сумку, дрель и идет к машине.
Четыре
Это час свинца —
Если выживешь – вспомнится…
Эмили Дикинсон [37]
1
Ночь она проводит в Фои, на гостевой стоянке против городского причала. Наутро, включив радио, чтобы не пропустить предупреждения с полигонов у мыса Додмен, идет вдоль побережья, считает мысы, в три часа дня с приливом входит в Фалмутскую гавань, где свежевыкрашенный маяк, а к пастбищам и копотливому облаку вздымаются алеврит, сланец, песчаник. Мод убирает паруса, запускает двигатель, следом за другой яхтой мимо восточного волнолома заходит на внутренний рейд, а затем в марину. На понтоне болтаются двое, они и принимают швартовы. Отпускают комплимент яхте, пытаются разговорить Мод, а увидев, что разговоров не будет, удаляются, ничуть не обидевшись.
Она наводит порядок, проверяет кранцы, затягивает швартовы, заводит кабель к розетке на понтоне. Закончив, варит пасту, замешивает туда банку тунца вместе с маслом и съедает это все в кокпите. Приходит женщина из администрации марины. Ей очень неловко беспокоить Мод.
– Вы у нас надолго?
– На ночь, – отвечает Мод. Губы и подбородок лоснятся от масла.
Когда женщина уходит, Мод моет кастрюлю и тарелку в воде, согретой двигателем на входе в гавань. Мод устала, но по ней не скажешь; знает, что потом устанет сильнее, гораздо сильнее. Идет в город в чем была – шорты, летний свитер, кроссовки четвертого размера, которым уже сто лет. Порой видит себя в витринах, но едва ли склонна присваивать эту тень в стекле. Один раз, словно блуждая в лесу, замирает на узком тротуаре и озирается, вдруг испугавшись, что не найдет обратную дорогу к яхте. Всего на миг; затем какая-то девочка, болтая по телефону, пихает Мод худым голым плечом, и та идет дальше.
В супермаркете она берет две тележки – одну тянет за собой, другую толкает. Списка не написала, но список в голове. Сухая провизия, консервы, двадцать пачек риса в пакетах, всех сортов. Хлеб в вакуумной упаковке, бекон в вакуумной упаковке. Ржаные хлебцы, рисовые хлебцы. Кофе, чай, шоколад. Сухое молоко. Три дюжины яиц. Двадцать апельсинов и двадцать лимонов. Картошка, морковь, лук, огородная и кочанная капуста.