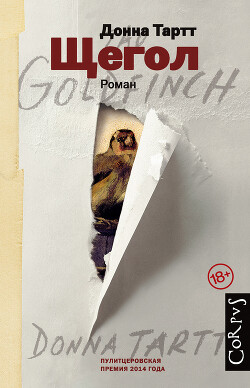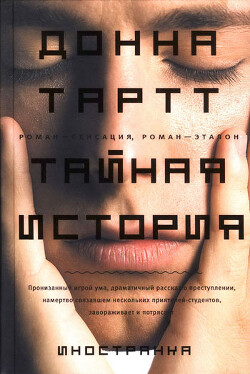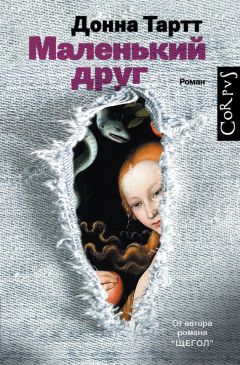— Не помню.
— Ну, и тебе повезло. Если б им пришлось уйти и оставить ее там, под завалами — а именно это, как я понимаю, случилось с некоторыми людьми там… А, наконец-то, — сказал он, когда засвистел чайник.
Он поставил передо мной тарелку с едой, на первый взгляд — ничего особенного: тост, а на нем — пышная желтая масса. Но пахло аппетитно. Я осторожно откусил кусочек. Расплавленный сыр, накрошенные помидоры, кайенский перец и еще что-то — я не мог разобрать что, но вкус был восхитительный.
— Простите, а что это? — спросил я, осторожно откусывая еще кусочек.
Он слегка смутился.
— Ну, вообще это блюдо никак не называется.
— Очень вкусно, — сказал я, слегка даже оторопев от того, какой я был голодный. Зимними воскресными вечерами мама иногда готовила почти такие же тосты с сыром.
— Ты сыр любишь? Надо было вообще-то спросить заранее.
Я кивнул, с набитым ртом говорить было невозможно. Хоть миссис Барбур и совала мне вечно мороженое и всякие сладости, ощущение было такое, что я и не ел нормально с того самого дня, как умерла мама — по крайней мере не ел ничего нормального для нас с ней: жаркого на скорую руку, яичницы, полуфабрикатных макарон с сыром — сидя на стремянке в кухне, рассказывая маме, как прошел день.
Пока я ел, он сидел напротив, подперев подбородок большими белыми руками.
— А что ты любишь? — вдруг спросил он. — Спорт?
— То есть?
— Ну, чем интересуешься? Спортом, играми, например?
— Ну… видеоиграми. Типа «Эйдж оф Конквест», «Якудза Фрикаут». Он явно смешался.
— А в школе? Есть любимые предметы?
— Ну, история, наверное. И английский, — добавил я, когда он ничего не ответил. — Но теперь месяца полтора на английском будет очень скучно, мы закончили с литературой и снова перешли к грамматике, рисуем теперь схемы предложений.
— А какая литература? Английская или американская?
— Сейчас американская. Ну, то есть была американская. И еще у нас в этом году история Америки. Хотя в последнее время там одна скукота. Мы только что слезли с Великой депрессии, здорово будет снова заняться Второй мировой.
Так хорошо я давно уже ни с кем не разговаривал. Он задавал всякие интересные вопросы, вроде того, что мы читали на литературе и чем средняя школа отличалась от начальной, какой предмет давался мне труднее всего (испанский) и какой период в истории мне больше всего нравился (я и сам толком не знал, да все что угодно, наверное, кроме Юджина Дебса и истории объединения профсоюзов, на которой мы уж очень долго сидели), и еще кем бы я хотел стать, когда вырасту (без понятия) — самые обычные вопросы, но все равно здорово было для разнообразия пообщаться со взрослым, которого интересовало обо мне хоть что-то, кроме случившегося со мной несчастья, который не вытягивал из меня информацию и не отчеркивал в уме галочками Фразы, Которые Обязательно Надо Сказать Ребенку, Пережившему Тяжелое Потрясение.
Мы уже добрались до писателей — начали с Теренса Уайта и перешли к Толкиену и Эдгару По, которого я тоже очень любил.
— Отец говорит, что По — второсортный писатель, — сказал я, — что он Винсент Прайс американской словесности. Но, по-моему, несправедливо так говорить.
— Несправедливо, — серьезно подтвердил Хоби, наливая себе чаю. — Даже если не любишь По — он ведь все-таки изобрел детективы. И научную фантастику. В сущности, он изобрел большую часть двадцатого века. Ну то есть, если по-честному, сейчас он мне уже не так нравится, как в детстве, но даже если ты его не любишь, нельзя просто взять и записать его в чудачье.
— Отец так считал. Он обычно ходил по комнате и декламировал «Аннабель Ли» дурацким голосом, чтобы меня побесить. Потому что знал, что мне это нравится.
— Так значит, твой отец — писатель.
— Нет. — Непонятно было, с чего он это взял. — Он актер. Был актером. — Еще до моего рождения он засветился в парочке телесериалов, главных ролей ему никогда не доставалось, в основном он играл каких-нибудь избалованных бабников — друзей главных героев или продажных дельцов, которых в результате убивали.
— Известный?
— Нет. Он теперь в офисе работает. Ну, или работал.
— И чем он теперь занимается? — спросил он.
Он надел кольцо на мизинец и то и дело вертел его большим и указательным пальцами другой руки, будто хотел убедиться, что оно на месте.
— Кто знает. Он нас бросил.
К моему удивлению, он рассмеялся:
— Ну и слава богу!
— Ну-у… — я пожал плечами. — Даже не знаю. Иногда с ним было норм. Мы смотрели вместе спорт по телику и полицейские сериалы, а он рассказывал, как делают все эти спецэффекты с кровью, все такое. Но я… я даже не знаю. Иногда он, например, приезжал за мной в школу пьяным. — Об этом я не говорил ни с Психо-Дейвом, ни с миссис Свонсон, вообще ни с кем. — Я побоялся маме рассказывать, но ей сказал кто-то из матерей в школе. А потом… — история была длинная, мне было стыдно, и я хотел все подсократить — …он сломал руку в баре, подрался там с кем-то, он в этот бар каждый день ходил, а мы не знали, потому что он нам говорил, что работает допоздна, и у него там была компания друзей, про которых мы вообще ни сном ни духом, и они ему слали открытки из отпуска, типа там с каких-нибудь Виргинских островов — прямо на наш домашний адрес, вот так мы обо всем и узнали, и мама пыталась заставить его записаться к Анонимным алкоголикам, но он не соглашался. А еще швейцары иногда вставали у нас под дверью и принимались шуметь, так, чтоб отец слышал, что они там, понимаете? Чтобы он держал себя в руках.
— Держал в руках?
— Ну, обычно он орал много и все такое. В основном только он и орал. Но, — мне сделалось неловко, потому что я понял, что сказал больше, чем хотел, — вообще, он просто шумел и все. Ну, не знаю, например, когда мама работала, а ему приходилось со мной сидеть. Он вечно был в плохом настроении, и мне было запрещено с ним разговаривать, если он смотрел новости или спорт — такое было правило. Ну, то есть… — я растерянно смолк, поняв, что загнал себя в угол. — Короче. Это все давно очень было.
Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня: огромный, сдержанный, невозмутимый мужчина с взволнованно-голубыми глазами мальчишки.
— А теперь? — спросил он. — Нравятся тебе люди, у которых ты живешь?
— Ээээ… — я замолчал, жуя, совершенно не зная, как объяснить ему про Барбуров. — Они вроде ничего.
— Я рад. Ну, то есть не могу сказать, что хорошо знаю Саманту Барбур, хоть в прошлом и делал кое-какие заказы для ее семьи. Вкус у нее есть.
Тут я перестал жевать.
— Вы знаете Барбуров?
— Ее. Его не знаю. Но у его матери была внушительная коллекция антиквариата, только, по-моему, из-за какой-то семейной ссоры все досталось брату. Велти бы тебе побольше рассказал. Он, конечно, сплетником не был, — поспешно прибавил он, — нет, Велти был очень осмотрительным, рот всегда держал на замке, но такой он был человек, что люди с ним откровенничали, понимаешь? Сущие незнакомцы, клиенты, которых он едва знал, рассказывали ему свои секреты, он был из тех, кому люди вечно поверяют свои печали. Однако, верно, — он скрестил руки, — каждый галерист и продавец антиквариата в Нью-Йорке знает Саманту Барбур. В девичестве она была Ван дер Плейн. Покупать она особо ничего не покупала, хоть Велти изредка и замечал ее на аукционах, и уж, конечно, кое-какие симпатичные вещички у нее имеются.
— Кто вам сказал, что я живу у Барбуров?
Он быстро заморгал.
— В газете писали, — ответил он. — Ты что, не читал?
— В газете?
— В «Таймс». Не читал? Правда?
— В газете что-то писали про меня?
— Нет, нет, — быстро заговорил он, — не про тебя. Про детей, которые потеряли близких тогда в музее. Большинство были туристами. Была там одна маленькая девочка… совсем кроха, дочка дипломата из Южной Америки…
— Что про меня написали в газете?
Он поморщился.
— Ну, знаешь — остался сиротой… нашел приют у светской львицы, активно занимающейся благотворительностью, всякое такое. Сам, наверное, представляешь.