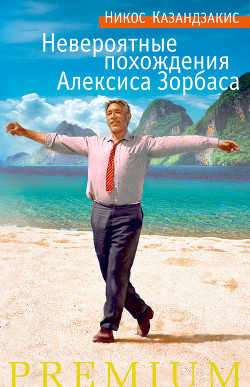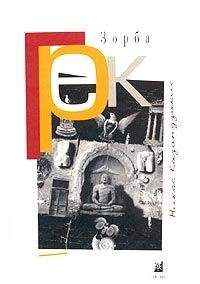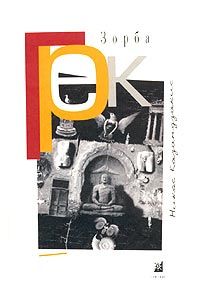— Как тебя зовут? — спросила она меня млеющим голоском.
— Дедушка! — отвечаю я, уязвленный.
Потаскушка крепко прижалась ко мне.
— Пойдем… — шепнула она, — пойдем…
Я, сжав ее руку, дал понять, что согласен, и ответил:
— Пошли, моя малышка… — голос мой совсем охрип.
В дальнейшем я был на высоте, можешь не сомневаться. Потом нас сморил сон. Когда я проснулся, должно быть, наступил полдень. Осматриваюсь и что же вижу? Чудная комнатка, очень чистая, кресла, умывальник, мыло, разные флаконы, зеркала, на стене висят пестрые платья и куча фотографий: моряки, офицеры, жандармы, танцовщицы, единственная одежда которых — сандалии. А рядом со мной в постели теплая, надушенная, растрепанная девочка.
Ах, Зорба, говорю я себе, потихоньку закрывая глаза, ты живым попал в рай. Место уж больно хорошо, ни шагу отсюда! Я тебе уже как-то говорил, хозяин, у каждого свой собственный рай. Твой рай будет набит книгами и бутылями чернил. Для другого он будет наполнен бочонками с вином, ромом и коньяком, для третьего — пачками фунтов стерлингов. Мой рай здесь: маленькая надушенная комнатка с пестрыми платьями, туалетное мыло, достаточно широкая кровать с пружинами и женщина рядом со мной.
Раскаявшийся грешник наполовину прощен. Весь день я не высунул носа наружу. Подумай, как мне здесь было хорошо. Я заказал еду в лучшей харчевне и нам принесли целое блюдо съестного. Все очень подкрепляющее: черную икру, отбивные, рыбу, сок лимона, восточные сладости. Снова занялись любовью и снова уснули. Проснулись к вечеру, оделись и отправились под руку в кабаре, где она работала.
В двух словах, чтобы не утомлять тебя болтовней, скажу, что программа эта продолжалась. Но не порть себе кровь, я занимался и нашими делами.
Время от времени я наведывался в магазины посмотреть товары. Я куплю тросы и все необходимое, можешь быть спокоен. Днем раньше, неделей позже, или даже месяцем, что от этого изменится? Как говорят, кошки в спешке делают своих котят наперекосяк. И еще: быстро делают только кошки, да слепых родят. Поэтому особо не торопись. Я жду, пока мои уши прочистятся, а рассудок придет в норму в твоих же интересах, чтобы меня не обманули. Тросы должны быть первого сорта, иначе мы погибнем. Итак, наберись чуточку терпения, хозяин, и верь мне. Главное, не беспокойся о моем здоровье. Приключения мне на пользу. За несколько дней я превратился в молодого человека двадцати лет. Во мне такая сила, что, уверяю тебя, она заставит расти новые зубы. Прежде у меня болела поясница, теперь же мое здоровье отменно. Каждое утро я разглядываю себя в зеркале и удивляюсь, почему мои волосы еще не черны, как вакса.
Ты, наверное, удивляешься, зачем я тебе пишу все это. Ты для меня вроде исповедника, и мне не стыдно признаваться тебе в своих грехах. И знаешь почему? Мне кажется, ты, словно Господь Бог, держишь в руках влажную губку и — хлоп! хлоп! — хорошо ли, плохо, но ты все стираешь. Именно это и придает мне смелости рассказывать тебе обо всем. Так что слушай дальше!
Потом у меня все пошло вверх дном, и я близок к тому, что потеряю голову. Прошу тебя, как только получишь это письмо, возьми ручку и напиши мне. Пока не получу от тебя ответа, я буду сидеть как на угольях. Думаю, что много лет прошло с тех пор, как меня вычеркнули из списков Господа Бога. Впрочем, в списках дьявола меня тоже нет. Я записан только у тебя, поэтому мне некуда больше обратиться, ваша милость. Итак, слушай внимательно то, о чем я тебе расскажу. Вот что произошло.
Вчера в деревне близ Кандии был праздник; черт меня возьми, если я знаю, какому святому он посвящен. Лола (вот уж правда, я забыл тебе ее представить) говорит мне:
— Дедушка (она снова стала звать меня дедушкой, но теперь ласкательно), я хочу пойти на праздник.
— Иди, бабушка, — говорю я ей, — иди же.
— Но я хочу пойти с тобой.
— А я не пойду, у меня много дел. Иди одна.
— Ну что же, хорошо, я тогда тоже не пойду.
Я вытаращил глаза.
— Почему же ты не пойдешь?
— Если ты пойдешь со мной, тогда и я пойду, если ты не пойдешь — и я не пойду.
— Но почему? Разве ты не свободный человек?
— Нет, я не такая.
— И ты не хочешь быть свободной?
— Нет!
Честное слово, я почувствовал, что схожу с ума.
— Ты не хочешь быть свободной? — воскликнул я.
— Нет, не хочу! Не хочу! Не хочу!
Хозяин, я тебе пишу из комнаты Лолы, на ее бумаге, Христа ради, будь внимательнее к моим словам, прошу тебя. По-моему, человеком считается тот, кто хочет быть свободным. Женщина, которая отказывается от свободы, — человек ли она?
Умоляю, ответь мне тотчас. Обнимаю тебя от всего сердца, добрый мой господин.
Я, Алексис Зорба»
Прочитав письмо Зорбы, я долгое время оставался в нерешительности. Я не знал — злиться, смеяться или восхищаться этим простаком, который отринув привычные устои — логику, мораль, порядочность, добрался до сути. Все эти добродетели, такие необходимые в жизни, у него отсутствовали, зато остались только каверзные и опасные свойства, которые неотвратимо толкали его к крайностям, в бездну. Этот невежественный трудяга, пока писал, в пылу нетерпения ломал перья, в таком же состоянии были, наверно, люди, сбросившие обезьянью шкуру, или великие философы перед очередным открытием. Выяснить истину Зорба считал срочной необходимостью; похожий на ребенка, он все видит, словно впервые, без конца удивляется и спрашивает. Ему все кажется чудом, и каждое утро, открыв глаза и видя деревья, море, камни, птиц, он разевает рот от удивления.
«Что за чудо? — восклицает он. — Что это за тайны, которые называются дерево, море, камень, птица?»
Я вспоминаю, как однажды, когда мы брели к деревне, нам встретился маленький старичок верхом на муле. Зорба уставился на животное так, что крестьянин в ужасе закричал:
— Ради Христа, не сглазь его! — и перекрестился.
Я повернулся к Зорбе.
— Что ты сделал этому старику, он так раскричался? — спросил я.
— Я? Да ничего я не сделал! Я смотрел на мула, ну и что! Разве это тебя не удивляет, хозяин?
— Что именно?
— Да то, что на земле есть мулы.
Однажды, когда я читал, растянувшись на берегу, Зорба уселся передо мной и, положив сантури на колени, принялся играть. Подняв глаза, я смотрел на него. Мало-помалу выражение его лица стало меняться, его охватила какая-то первобытная радость, он тряхнул головой на длинной шее и запел.
Я услышал македонские напевы, песни клефтов, дикие возгласы; он как бы возвращался в доисторические времена, когда крик концентрировал в себе то, что сегодня мы называем музыкой, поэзией, мыслью. «Ах! Ах!» — выкрикивал Зорба из глубин своего естества, и весь этот тонкий слой, который мы называем цивилизацией, рвался, давая выход чувствам вечного дикаря, покрытого шерстью бога или наводящей ужас горилле, сидящих в этом человеке.
Лигнит, убытки и прибыли, мадам Гортензия и проекты будущего — все исчезало. Крик вбирал в себя все, нам ничего больше не было нужно. Застыв на мгновенье на этом уединенном критском берегу, мы хранили в груди всю горечь и сладость жизни. Солнце склонялось к западу, надвигалась ночь, Большая Медведица отплясывала вокруг небесной оси, выходила луна и с ужасом смотрела на двух козявок, которые пели на песке и никого не боялись.
— Эх, старина, человек — это дикое животное, а дикари не читают. Зорба немного помолчал и рассмеялся.
— Знаешь ли ты, как Господь Бог сотворил человека? А с какими первыми словами это животное, человек, обратилось к Богу?
— Нет. Откуда же мне знать? Я там не был.
— А я был! — воскликнул Зорба, сверкнув глазами.
— Ну и как же там, расскажи. Он с восторгом и иронией принялся сочинять фантастический рассказ о создании человека:
— Ну, хорошо, слушай, хозяин! Однажды утром Господь Бог проснулся в тоске. «Что же это я за бог, у меня даже нет людей курить мне фимиам или клясться моим именем. Хватит с меня жить в одиночестве, как старому филину!» Он поплевал себе на ладони, закатал рукава, взял комок глины, поплевал сверху, размял ее как надо, и, вылепив из нее человека, поставил на солнце.