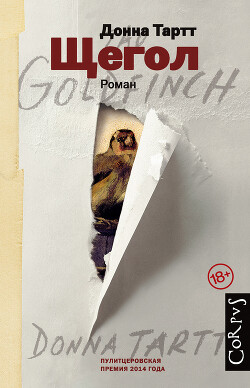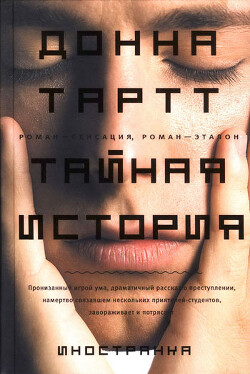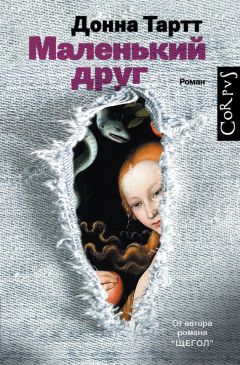— Нет! — встревоженно выпалила она. — Когда?
— Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой.
— А-а, — грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки. — А у меня нет бабушки с дедушкой.
Я оплел ее пальцы своими.
— Мои не слишком-то симпатичные.
— Прости.
— Да ничего, — ответил я самым нормальным тоном, на какой был только способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой.
— А других родственников у тебя нет? — В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными.
— Нет. Ну, то есть… — Отца считать? — Нет.
Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками: один у нее в ухе, второй — у меня. Пение ракушек. Жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это — размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю.
— Как ты говорила, зовут композитора? — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то.
Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике.
— Палестрина, — ответила она с торчащей изо рта палочкой. — «Торжественная месса». Или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи.
— А она тебе нравится? — спросил я. — Твоя тетка?
Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала:
— Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это неклассно.
— А зачем? Зачем тебе уезжать?
— Там в деньгах дело. Хоби ничего не может поделать, он мне не настоящий дядя. Мой как-будто-дядя, как она его зовет.
— Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей, — сказал я. — Я хочу, чтоб ты осталась здесь.
Внезапно она села, обвила меня руками и поцеловала; разом вся кровь отхлынула у меня от головы, одной мощной волной — я будто с утеса рухнул.
— Я…
Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам — вытереть их, только на губах не было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони.
— Не хочу, чтоб ты уезжала.
— И я не хочу.
— Ты меня видела, помнишь?
— Когда?
— Сразу перед тем как.
— Не помню.
— Я тебя помню, — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть ли не сел на него. — Я там был.
И тут я понял, что Хоби стоит в дверях.
— Привет, лапушка, — и хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. — Говорил же, он еще придет.
— Говорил! — сказала она, подтянувшись повыше. — Он пришел.
— Ну, будешь меня в следующий раз слушать?
— Я тебя слушала! Просто не верила.
Кончик тюлевой занавески прошуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории: дождливый свет, сидящая на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хоби, и ее поцелуй (с чудным привкусом леденца — он, как я теперь думаю, был с морфином), который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова, не от него я был весь улыбчиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане, мы с ней распрощались (писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла), и вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хоби утешительно кладет руку мне на плечо — сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь, чтобы я понял — все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался — по-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь, и я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови, рванулась верность, внезапное, унизительное, защипавшее глаза убеждение, что это хорошее место, это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет.
— Ох, — вскричала тетка Маргарет, — ты плачешь? Только посмотрите! — обратилась она к молоденькой сиделке (та кивала, улыбалась, чуть ли не ела у нее из рук и старалась угодить). — До чего милый мальчик! Ты ведь будешь очень по ней скучать, правда? — Улыбалась она во весь рот, уверенная в себе, в собственном праве. — Обязательно, обязательно приезжай к нам в гости. Я просто обожаю принимать гостей. У моих родителей… был один из самых больших в Техасе тюдоровских домов…
И она пошла трещать дальше, приветливая, как попугай. Но я уже присягнул на верность другим. И вкус поцелуя Пиппы — горьковато-сладкий, странный — так и оставался со мной до самого дома, пока я, сонно покачиваясь, плыл обратно в автобусе, тая от печали и прелести, от лучистой боли, что приподнимала меня над сквозняковым городом, словно воздушный змей: голова в тучах, сердце в небесах.
9
Я вынести не мог, что она уезжает. И думать было тошно. В день ее отъезда я проснулся несчастным и разбитым. Я глядел на небо над Парк-авеню — иссиня-черное, грозное, вздувшееся небо, будто сошедшее с картин, изображавших Голгофу, и представлял, что и она глядит в это же темное небо из окна самолета; и пока мы с Энди шагали к автобусной остановке, опущенные взгляды и хмурые лица прохожих, казалось, отражали и увеличивали мою тоску из-за ее отъезда.
— Да, в Техасе скукота, это точно, — сказал Энди, то и дело чихая. Из-за пыльцы глаза у него были красные и слезящиеся, и потому он сильнее, чем обычно, напоминал лабораторную белую мышку. — Ты там был?
— Да, в Далласе. Одно время тетя Тесс и дядя Гарри жили там. Делать там вообще нечего, только в кино ходить, и пешком никуда не дойдешь, обязательно надо на машине ехать. И еще у них там гремучие змеи и смертная казнь, что, на мой взгляд, мера примитивная и неэтичная в девяноста восьми процентах случаев. Но, может, ей там будет лучше.
— Почему?
— Да в основном из-за климата, — сказал Энди, вытирая нос отглаженным хлопчатобумажным платком, который он каждое утро выдергивал из стопки таких же, лежавших у него в комоде. — В теплом климате больные лучше идут на поправку. Поэтому дедушка Ван дер Плейн переехал в Палм-Бич.
Я молчал. Я знал, что Энди меня не выдаст, я доверял ему, ценил его мнение, и все же, пока мы с ним разговаривали, у меня то и дело появлялось чувство, что я говорю с компьютерной программой, которая симулирует человеческое общение.
— Если она будет жить в Далласе, пусть обязательно сходит в Музей природы и науки. Хотя, наверное, ей он покажется слишком уж маленьким и несовременным. В тамошнем «Аймаксе» даже 3-D нет. А еще они берут дополнительную плату за проход в планетарий, и это просто нелепо, потому что их планетарий ничто по сравнению с хайденовским.
— Хмммм.
Иногда я спрашивал себя: а может ли хоть что-то вышибить Энди из его ботанско-математической башни? Цунами, например? Вторжение десептиконов? Годзилла на Пятой авеню? Он был как планета без атмосферного слоя.
10
Бывает ли одиночество сильнее того, которым мучился тогда я? У Барбуров, посреди шума и гама не моей семьи, я чувствовал себя еще более одиноким, чем прежде — еще и из-за того, что близился конец школьного года, и я не совсем понимал (и Энди, кстати, тоже), возьмут ли они меня с собой в свой летний дом в Мэне. Миссис Барбур с присущей ей деликатностью ухитрялась обходить эту тему, даже когда по всему дому стали появляться картонные коробки и раскрытые чемоданы; мистер Барбур и младшие дети были в восторге, но Энди взирал на все с неприкрытым ужасом.
— Солнце, воздух и вода, — презрительно сказал он, поправляя очки (такие же, как у меня, только стекла заметно толще). — По крайней мере ты у бабки с дедом будешь на суше. С горячей водой. И выходом в интернет.