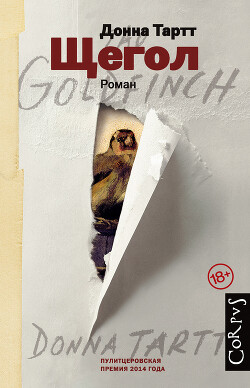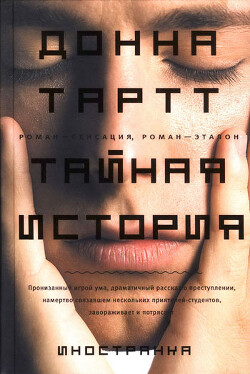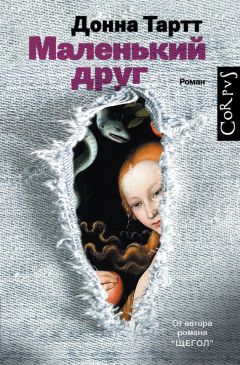«Это на что же ты намекаешь?» — вопил отец.
Молчание.
«Я теперь вор, значит?! Ты собственного мужа обвиняешь в том, что он у тебя цацки ворует?! Что за больной бред?! Тебе лечиться надо, понятно? Обратиться к специалистам.»
Но пропали не только сережки. После того как он сам исчез, выяснилось, что вместе с ним исчезли и кое-какие другие вещи — деньги и несколько старинных монет, принадлежавших еще маминому отцу; мама тогда поменяла замки и предупредила Чинцию и швейцаров, чтоб не пускали его в квартиру, если он появится, пока она на работе. Теперь, конечно, все переменилось, и никто больше не мог помешать ему войти в дом, рыться в ее вещах и делать с ними все, что ему заблагорассудится, и пока я стоял перед ним, придумывая, что же, блин, ему ответить, в голове у меня проносились десятки мыслей, и в первую очередь я думал о картине. Неделями напролет я каждый день все думал — зайду туда, возьму картину, придумаю что-то, но все откладывал и откладывал, а теперь вот он появился.
Отец все тянул передо мной губы в улыбке:
— Ну что, дружище? Поможешь нам?
Может, он и бросил пить, но застарелый голод по вечернему стаканчику так и проступал из него, шершавый, как наждак.
— У меня ключей нет, — сказал я.
— Ну и ладно, — быстро нашелся отец, — вызовем слесаря. Ксандра, дай-ка телефон.
Я лихорадочно соображал. Нельзя, чтобы они без меня заходили в квартиру.
— Хозе или Золотко нас могут впустить, — сказал я. — если я с вами схожу.
— Отлично, — сказал отец, — тогда идем.
По его тону я заподозрил, что мое вранье про ключ (который был надежно спрятан у Энди в комнате) он раскусил. И я знал, что он не в восторге от того, что придется привлекать к этому швейцаров, потому что большинство работавших в нашем доме парней отца ни в грош не ставили, потому что слишком уж часто видели его в стельку пьяным. Но я глядел на него так бесстрастно, как только мог, и наконец он пожал плечами и отвел глаза.
18
— Hola, Jose! [26]
— ¡Bomba! — воскликнул Хозе, счастливо отпрыгнув назад, едва завидел меня на дорожке, из всех швейцаров он был самый молодой и бодрый, вечно норовил улизнуть до конца смены и поиграть в парке в футбол. — Тео! ¿Qué lo que, manito? [27]
От его беззаботной улыбки меня с размаху отбросило назад в прошлое. Все было прежним: зеленый козырек, желтушный навес, все та же заросшая грязью лужица в просевшем тротуаре. Стоя перед дверьми ар-деко, ослепительно-никелевыми, изрезанными лучами абстрактного солнца — такие двери в фильме 30-х годов могли толкать ретивые газетчики в Федорах, — я вспомнил, сколько раз я заходил в холл и сталкивался с мамой, которая, поджидая лифт, разбирала почту. Она только-только зашла с работы, на каблуках, с портфелем, в руках — букет цветов, который я послал ей в честь дня рождения. Нет, ты представляешь? Мой тайный поклонник снова дал о себе знать.
Хозе перевел взгляд на отца и державшуюся чуть поодаль Ксандру.
— Здрасте, мистер Декер, — сказал он чуть более официальным тоном, ответив через мою голову на его рукопожатие: вежливо, но без особой радости. — Рад вас видеть.
Отец, надев свою Приятнейшую Улыбку, начал было ему отвечать, но я так разнервничался, что перебил его:
— Хозе, — по пути сюда я старательно вспоминал весь свой испанский, повторяя в уме, что надо сказать, — mi papâ quiere entrar en el apartamento, le necesitamos abrir la puerta [28], — и затем, быстро вбросил вопрос, который сложил по пути сюда: — ¿Usted puede subir con nosotros? [29]
Хозе бросил быстрый взгляд на отца с Ксандрой. Он был огромным симпатичным доминиканцем, чем-то напоминавшим молодого Мохаммеда Али — добряк, сплошные шутки-прибаутки, но чуешь, что с ним лучше не связываться. Однажды, разоткровенничавшись, он задрал свой форменный пиджак и показал мне шрам от ножа на животе, сказав, что получил его в уличной драке в Майами.
— Рад помочь, — непринужденно ответил он по-английски. Смотрел он на них, но я понимал, что обращается он ко мне. — Отведу вас. Все в порядке?
— Да, в норме, — сухо ответил отец.
Это он настоял на том, чтоб я в качестве иностранного языка выбрал испанский, а не немецкий («тогда хоть кто-то у нас в семье сможет общаться с этими сраными швейцарами»).
Ксандра, которую я про себя уже начал считать качественной идиоткой, нервно хихикнула и сказала быстро, глотая слова:
— Да, все ок, но перелет нас укатал. Из Вегаса лететь далеко, и мы еще… — она закатила глаза и повертела пальцами, изображая отходняк.
— Правда? — спросил Хозе. — Сегодня? В Ла Гуардию прилетели?
Как и все швейцары, он отлично умел поддержать светскую беседу, особенно о погоде или пробках и о том, как лучше добираться в аэропорт в час пик.
— Слышал, там сегодня сплошные задержки, что-то неладное с погрузчиками багажа, профсоюз, что-то такое, верно?
Всю дорогу наверх, пока мы ехали в лифте, из Ксандры лился непрерывный, взбудораженный треп: и как же грязно в Нью-Йорке после Лас-Вегаса («Да, признаюсь, на Западе почище будет, по ходу я этим избалована»), и какой протухший у нее был в самолете сэндвич с индейкой, и как стюардесса «забыла» (Ксандра пальцами делает кавычки) принести ей пять долларов сдачи за заказанный Ксандрой бокал вина.
— Ох, мэм, — сказал Хозе, выходя из лифта и покачивая головой со свойственной ему наигранной серьезностью, — нет ничего хуже этой самолетной еды. Еще надо спасибо сказать, если вообще покормят. Хотя я вам вот что скажу про Нью-Йорк. Еда тут отличная. Отличная вьетнамская кухня, кубинская, индийская…
— Прямо вот всякое острое терпеть не могу.
— Ну, что хотите тогда. У нас все есть. Segundito [30], — он поднял палец и принялся отыскивать в связке нужный ключ.
Замок громыхнул основательно — щелк! — въевшийся, нутряной в своей правильности звук. Хоть воздух в квартире, куда долго никто не заходил, был спертым, меня чуть не расплющило неукротимым запахом дома: книг, старых ковриков, средства для мытья полов с лимонным ароматом, мирры темных свечей, которые она купила в «Барнис».
Сумка из музея так и стояла на полу, возле софы — там, где я ее оставил, сколько уж теперь недель назад? Плохо соображая, я метнулся мимо Хозе в квартиру и схватил сумку, пока швейцар — как будто невзначай перекрыв дорогу закипающему отцу — стоял в дверях, скрестив руки на груди и слушая Ксандру. Его невозмутимый, но слегка отсутствующий взгляд был похож на тот, с каким он однажды морозной ночью практически затаскивал отца наверх, когда тот так напился, что где-то потерял пальто.
— С кем не бывает, — говорил он с неопределенной улыбкой, отказываясь от двадцатки, которую отец, несвязно лепечущий что-то, в заблеванном пиджаке, исцарапанный и до того грязный, будто по земле катался, совал ему под нос.
— Я сама вообще с Восточного побережья, — говорила Ксандра, — из Флориды. — И снова этот нервный смешок — дерганый, с запинками. — Из Вест-Палма, если быть точной.
— Из Флориды, говорите? — услышал я ответ Хозе. — Там красота.
— Да, там здорово. Ну, в Вегасе у нас хоть солнца навалом — уж не знаю, как бы я пережила местную зиму, превратилась бы в мороженое…
Едва я схватил сумку, как понял, что она слишком легкая — почти как пустая. Да где же тогда картина? Меня слепила паника, но я все бежал дальше по коридору, на автопилоте к себе в комнату, иду, а в голове все так и вертится, крутится…
Внезапно, сквозь разрозненные воспоминания о той ночи — меня осенило. Сумка промокла, я не хотел оставлять картину в мокрой сумке, чтоб она не заплесневела, не растеклась, ну или что там с ней еще могло случиться. И поэтому — как же я мог забыть? — я выставил картину на мамино бюро, чтоб она ее сразу увидела, как придет домой. Быстро, не останавливаясь, я бросил сумку прямо в коридоре у закрытой двери в свою комнату и с гудящей от страха головой повернул в спальню к маме, надеясь, что отец не пошел за мной, боясь оглянуться и проверить.