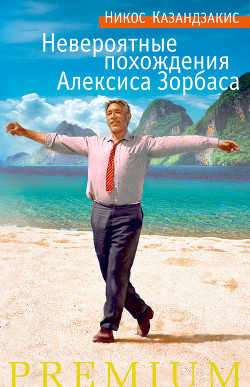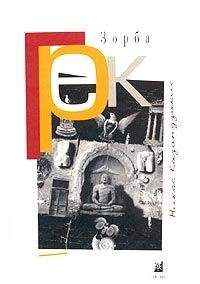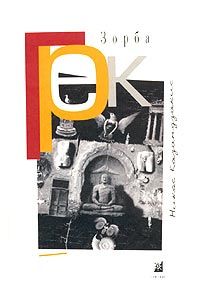— Настоящий мужчина? Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, что я свободен!
— Хозяин, — позвал я, — еще порцию рома!
— Две порции! — крикнул Зорба. — Одну выпьешь со мной ты, и мы чокнемся. Настойка и ром вместе не поладят. Поэтому ты тоже выпьешь со мной рому, надо спрыснуть наш договор. И мы чокнулись. К этому моменту совсем рассвело. Пароход подавал гудки. Возчик, перетащив мои чемоданы на судно, сделал мне знак.
— Да поможет нам Бог, — сказал я, поднимаясь. — Пошли!
— …И дьявол! — невозмутимо добавил Зорба.
Он наклонился, сунул сантури под руку, открыл дверь и вышел первым.
2
Море, залитые светом острова, мягкость осени, прозрачная сетка мелкого дождя, омывавшая бессмертную наготу Греции. «Счастлив, — думал я, — тот человек, которому дано было видеть Эгейское море».
Немало есть радостей в этом мире — женщины, дела, идеи. Но рассекать волны этого моря ранней осенней порой, шепча название каждого из островов, — мне кажется, нет большей радости, чем та, что погружает душу человека в рай. Ни в каком другом месте нельзя перейти столь безмятежно и непринужденно от действительности к мечте. Границы исчезают, и мачты даже самых старых судов устремляют к небесам свои реи и флаги. Говорят, что здесь, в Греции, чудеса просто неизбежны.
В полдень дождь прекратился, солнце, прорвавшись сквозь мягкое и нежное облако, будто только что искупавшееся, стало ласкать своими лучами воды и земли. Я находился на носу и был просто опьянен этим чудом.
Находившиеся на судне греки были дьявольски хитры, с хищным блеском глаз, среди них были благонравные и ядовитые жеманницы; головы всех были полны базарного хлама; слышались разговоры о политике, ссоры, звуки расстроенного рояля. Повсюду царила атмосфера провинциальной нищеты. Вас обуревало желание ухватить судно за оба его конца, погрузить его в пучину и хорошенько потрясти, чтобы вытряхнуть из него все живое — людей, крыс, клопов, а потом снова пустить его по волнам, чисто вымытым и опустевшим.
Однако иногда меня охватывало сострадание, близкое к состраданию буддизма, отвлеченное, словно метафизический силлогизм. Это была жалость не только к людям, но и ко всему свету, который борется, кричит, плачет, надеется и не видит, что все это не что иное, как фантасмагория небытия. Сострадание к грекам, судну, морю, к самому себе, лигнитовой шахте и к рукописи «Будда» — ко всем этим никчемным скопищам теней и света, которые внезапно всколыхнули и осквернили чистый воздух.
Я смотрел на Зорбу: изможденный, с восковым лицом, он сидел на свернутых канатах на носу судна. Старик сосал лимон и напряженно вслушивался в спор пассажиров: одни поддерживали короля, другие — Венизелоса; он покачал головой и сплюнул.
— Старый хлам! — пробормотал он с отвращением. — И не стыдно им!
— Что ты называешь старым хламом, Зорба?
— Да все это: королей, демократию, депутатов, настоящий маскарад!
В мозгу Зорбы современные события были всего лишь старьем, ибо сам он их уже пережил. Такие понятия, как телеграф, пароход, железные дороги, расхожая мораль, родина, религия в его сознании, наверное, имели вид старых ржавых ружей. Его миропонимание обгоняло время.
Скрипели снасти, берега танцевали, женщины становились желтее лимонов. Они сняли с себя свое оружие — румяна, корсажи, булавки для волос, гребни. Их губы были бледны, ногти посинели. Старые сороки сбрасывали перья, падали взятые взаймы перышки — ленты, фальшивые ресницы, фальшивые родинки, бюстгальтеры, и видя их рвотные гримасы, невольно испытываешь и отвращение и огромное сострадание.
Зорба тоже стал желтым, потом зеленым, его сверкающие глаза потускнели. Лишь к вечеру его взгляд оживился. Он показал мне на двух дельфинов, которые резвились, соперничая в скорости с судном.
— Дельфины! — сказал он радостно.
Впервые я заметил тогда, что указательный палец на его левой руке отрезан почти наполовину. Я вздрогнул, почувствовав некоторую неловкость.
— Что случилось с твоим пальцем, Зорба? — крикнул я.
— Ничего! — ответил он, задетый тем, что я не выразил особой радости при виде дельфинов.
— Это какая-нибудь машина тебе его оторвала? — продолжал я любопытствовать.
— Что ты тут болтаешь о какой-то машине? Я его сам себе отрубил.
— Ты, сам? Зачем же?
— Ты никак не можешь понять, хозяин! — сказал он, пожав плечами. — Я тебе говорил, что занимался всем на свете. Так вот, однажды я был гончаром. Это ремесло я любил, как сумасшедший. Знаешь ли ты, что такое взять комок глины и делать из него все, что захочешь? Фрр! Ты раскручиваешь круг, и глина вращается, как одержимая, в то время как ты, ее господин, говоришь: сейчас я сделаю кувшин, тарелку, а сейчас лампу и все, что захочу, клянусь сатаной! Вот это и называется быть мужчиной: свобода! Он забыл о море, больше не сосал лимон, глаза его снова стали ясными.
— Ну а дальше? — спросил я. — С пальцем-то что произошло?
— Ну так вот — он мне мешал работать на круге. Он лез в самую середину, портил все мои задумки. И вот однажды я схватил топор…
— И тебе не было больно?
— Почему это мне не было больно? Я же не чурбан какой, я тоже человек, и мне было больно. Но я тебе сказал — он мне мешал, поэтому я его отрубил.
Солнце зашло, море стало немного спокойнее, облака рассеялись. Засверкала вечерняя звезда. Я смотрел на море, любовался небом и стал думать… Так любить, что взять топор, отрубить и чувствовать боль… Но я постарался спрятать свое волнение.
— Эта система очень плохая, Зорба! — сказал я, улыбаясь. — Это мне напоминает историю, о которой рассказывается в Золотой легенде. Однажды аскет увидел женщину, которая его взволновала. Тогда он взял топор…
— Идиот! — прервал меня Зорба, догадываясь, что я хотел сказать. — Отрубить его! Идиот! Это же бедный плут, он ведь никогда не мешает.
— Как? — настаивал я. — Очень даже мешает.
— Чему же?
— Он мешает тебе войти в царство небесное! Зорба искоса посмотрел на меня с насмешливым видом.
— Ну уж нет, — сказал он, — не будь идиотом, это же ключ от рая. Он поднял голову, посмотрел на меня внимательно, словно хотел угадать, какой же я смысл вложил в эти слова: загробная жизнь, царство небесное, женщина или священник. Казалось, он многого не понимал. Старик мягко тряхнул своей большой головой.
— Калек в рай не пускают! — сказал он и замолчал.
Я пошел полежать в каюту, взяв книгу; Будда все еще владел моими мыслями. Я читал диалог Будды и пастуха, от которого в последние годы на меня веяло спокойствием и безмятежностью.
«Пастух — Обед мой готов. Я подоил своих овец. Дверь моей хижины заперта, очаг разожжен. Можешь изливать дождь столько, сколько захочешь, о небо!
Будда — Я не нуждаюсь больше ни в пище, ни в молоке. Ветры — мое жилище, очаг мой погас. Можешь изливать дождь столько, сколько захочешь, о небо!
Пастух — У меня есть волы, коровы, у меня есть луга моих предков и бык, который покрывает моих коров. А ты, ты можешь изливать дождь столько, сколько хочешь, о небо!
Будда — У меня нет ни волов, ни коров. У меня нет пастбищ. У меня ничего нет. Я ничего не боюсь. А ты, ты можешь изливать дождь столько, сколько захочешь, о небо!
Пастух — У меня есть пастушка, покорная и преданная. Прошло много лет с тех пор, как она стала моей женой, я счастлив, балуясь с ней по ночам. А ты, ты можешь изливать дождь столько, сколько захочешь, о небо!
Будда — У меня есть душа, покорная и свободная. Уже многие годы я ее упражняю и научил ее играть со мной. А ты, ты можешь изливать дождь столько, сколько захочешь, о небо!»
Эти два голоса еще говорили, когда сон овладел мной. Вновь поднялся ветер, и волны разбивались о толстое стекло иллюминатора. Я плыл между сном и явью. Мне виделось, как разразилась жестокая буря, пастбища затопило, волов, быка и коров поглотила вода. Ветер унес крышу жилища, огонь погас; жена вскрикнула и замертво упала наземь. Пастух начал жаловаться; он кричал, но я его не слушал, а все глубже погружался в сон, скользя, как рыба в морской глубине.