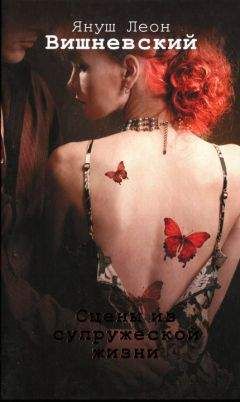Вот и автобус.
Она думала о нем. Он догнал ее, когда она выходила с Ремеком из университета. Он не мог допустить, чтобы она вот так ушла. Извинился перед Ремеком и отвел ее в сторону. В принципе он сказал именно то, что она ожидала, то, что женщина хочет в такой момент услышать:
— Ты появилась в моей жизни как сказка, я хочу этой сказке дописать счастливый конец. Хочу, чтобы мы дописали его вместе. То, что я с тобой пережил… и…
Она смотрела на него, до боли вонзив ногти в ладони. Он говорил что-то о прояснении ситуации. О жене, о ребенке… О годах, прожитых вместе. О том, что он не подлец, потом, что он подлец, поскольку, что бы он ни сделал, все воспринимается как подлость. Он все объяснил декану про снимки. Сказал, что это личное и касается двух взрослых людей, имеющих гарантированное конституцией право на частную жизнь. Рассказал про плагиат.
В таких случаях он бескомпромиссен. Он честен. Во всяком случае, старается быть честным. Он не может дальше так жить, а потому все расскажет жене. И хотел бы сделать это самым деликатным образом.
В этот момент Мартине пришло в голову, что отношение этого мужчины к жене отражает его отношение к женщинам вообще. Она не помнит, чтобы хоть когда-нибудь ее отец в ее присутствии или при ком-либо еще плохо отзывался о маме или старался уязвить ее.
Она видела, как Ремек кружит около каштана на площади перед университетом. Подала ему знак, чтобы он ушел.
Несмотря на эту аферу и эту разлуку, она чувствовала себя в безопасности. Как же это чудесно — знать, что мужчина, с которым она (а она с ним? что значит быть с ним?), такой умный, что он найдет выход в любой ситуации. Она забыла об истории с блогом. Зато вспомнила историю с полотенцем и оборванными жалюзи в лекционном зале. Невозможно, чтобы так небанально начавшийся роман имел банальный финал. Она помнит то ощущение, когда предстала перед ним обнаженной. Тогда она впервые почувствовала себя желанной. Анджей лишал ее смелости. А перед ним она всегда хотела быть обнаженной. Он наклонился к ней:
— Я знаю, о чем ты думаешь сейчас…
Она ощутила озноб. Они сидели в кафе. Он попросил ее подождать. Потерпеть. Попросил ее, «чтобы она была»…
Уже Пултуск. Еще немного, и она будет дома. День-другой побудет с отцом. Потом наверстает упущенное. Ремек на посту. Она поговорит с отцом так откровенно, как никогда до сих пор. Они погасят свет, зажгут свечи. Устроят вечер откровений. Они должны были обсудить планы на зимние каникулы. Вот и будет хороший повод, чтобы все рассказать отцу.
Может, у них обоих есть что рассказать друг другу?
И тогда восстановится равновесие. И как-нибудь все утрясется.
В кармане завибрировал мобильник. Эсэмэски.
Первая от Ремека: «Когда вернешься, пойдем вместе на „Пианиста”. Угощаю».
Вторая от отца: «Мартыня. Я знаю от Магды, что ты приезжаешь. Тони ждет. Я тоже».
*
Автобус медленно пробирался сквозь туман. Прибавлял ходу только тогда, когда с двух сторон огороженная лесом дорога становилась вдруг прозрачной, словно проложенный в лесу стеклянный туннель. Окутанные мглой придорожные фонари мелькавших за окном деревушек выглядели как украшенные ватой елочные гирлянды. «Сочельник, уже через три недели», — подумала она, закрывая глаза.
Сочельник…
Она всегда украшала гирлянды ватой. Одну за другой. Отец ставил елку в углу комнаты, рядом с ретушированной фотографией дедушки и бабушки, мама хлопотала по хозяйству, а она не могла дождаться момента, когда отец выйдет из ванной гладкобритый, завяжет галстук перед зеркалом в прихожей, поправит пиджак, тихонько постучит в спальню, где переодевается мама, и спросит:
— Марыся, облатка в буфете?
Не ожидая ответа (а чего ждать, облатка ведь всегда была там), он подходил к буфету, доставал облатку, не спеша разворачивал бумагу, клал всегда на то же выщербленное фарфоровое блюдечко, и они вместе вставали перед дверью спальни. Потом к ним выходила мама, отец целовал ее руку, обнимал и прижимал к себе.
Положив голову на плечо отца, мама глазами, полными слез, смотрела на нее сверху. Каждый год было одно и то же: она украшала гирлянды ватой, облатка ждала в буфете, отец обнимал маму. И сколько она себя помнит, она ждала именно этого момента. Не столько подарков под елкой, и даже не дорогу в костел, когда родители шли впереди, держась за руки, а отец тянул санки, на которых она сидела, и ей казалось, что весь мир завидует ей.
Когда родители расстались, она по-прежнему украшала гирлянды ватой и по-прежнему ждала маму перед дверью спальни. Но уже не чувствовала никакой радости. Только беспокойство, как перед тем ужином с матерью — в молчании, за столом, на котором стояли два пустых прибора.
Тот, второй, всегда на том месте, где стоял стул, на котором обычно сидел отец.
Справиться с этой рождественской грустью матери не помогали ни посещения психотерапевта в Ольштыне, ни коньяк, который она пила тайком с утра в сочельник, как всегда хлопоча на кухне, жаря карпа и готовя селедку под шубой, а после ужина недрогнувшей рукой вываливая все это в мусорное ведро. Потому что в их семье только отец ел селедку. Потом сочельники были только у бабушки. В Зелёнке, в Борах Тухольских. Потому что мать в одно прекрасное лето уехала в Голландию. К подруге в Амстердам. Мартина тогда училась во втором классе. Мать вернулась через три недели. Она пригласила в ресторан ее и отца и сказала, что забирает ее в Амстердам. Что они будут пока жить в доме подруги, что она нашла работу и что «со школой не будет никаких проблем, потому что муж подруги — директор англоязычной школы для детей дипломатов в Гааге и обещал принять Мартину уже с сентября». Отец молчал, а она на весь ресторан разревелась, что никуда не поедет, что здесь у нее друзья, свой мир и что она не хочет жить ни в каком Амстердаме. Что она не мебель, которую можно по желанию перевезти на новую квартиру. Она выбежала из ресторана и поехала к бабушке в Зелёнку. Мать нашла ее там. Просила, умоляла. Говорила о своей жизни, которую хотела бы устроить, пока еще есть время. Что здесь, где все, даже «это чертово озеро перед домом», напоминает отца, у нее ничего не получится. Что только там, вдали, она сможет перестать «ждать, пока он раскачается», и попытаться начать все сначала.
Она не поехала с матерью в Голландию. Теперь, когда она думает об этом, ей кажется, что была жутко несправедлива. Отец снимал тогда комнату в Ольштыне, а потому ей все равно пришлось покинуть Щитно. В сущности, когда она переехала в Зелёнку, она оставила и своих друзей, и свой мир, на который она постоянно ссылалась в спорах с матерью.
Через год после отъезда матери отец вернулся в Щитно и поселился в их доме над озером. Она вернулась в Щитно и тосковала о том, что оставила там, в Борах Тухольских. Потому что твой мир, и она знает это с Зелёнки, не имеет ничего общего с почтовым адресом. Это не столько географические составляющие, сколько люди, с которыми встречаешься, события, в которых участвуешь, и воспоминания, которые хочется оставить при себе. И среди всех этих событий и воспоминаний сочельник — нечто исключительное. Поэтому теперь, спустя годы, она понимает, что мать была права, убегая в мир, в котором на рождественском столе только один пустой прибор. Интересно, как она теперь… все так же ставит два пустых прибора на рождественский стол в новой семье? И все так же, совсем не случайно, разрушает мечты какой-нибудь девочки на санках?
Автобус остановился. Она открыла глаза. Щитно. Несомненно. Только в Щитно автобусная станция такая маленькая, что выглядит как велосипедная стоянка и находится рядом с палаткой, тоже маленькой, с вывеской «Мясо». Тони увидел ее в окне автобуса. Начал лаять и скакать как ошалелый, опираясь лапами о багажные люки автобуса. После танца радости Тони она поздоровалась с отцом. Они поехали домой. Пока отец ставил чайник, она прошлась по дому. Она всегда так делала по приезде домой. Ставила сумку в прихожей и еще в пальто или куртке проходила через всю квартиру. Только после того как проверит, все ли на своих местах, она чувствовала, что на самом деле вернулась.