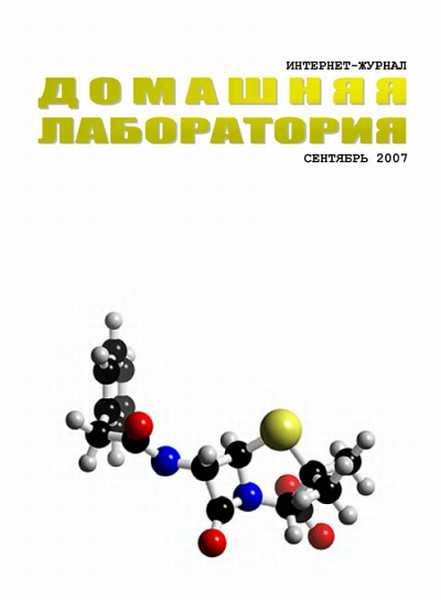и бурной жизни! Тогда он был устал, но могуч, тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уж и со страстями, тогда он был вулкан, а теперь он — пластмассовая пепельница с угасшими окурками, тогда он имел своим девизом слова: "Ничто не слишком", а теперь ему, наверное, было бы стыдно вспомнить о них, тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь Трике, да и то в народной опере мукомолов. Укатали Кармадона волопасные бдения, видно, и асом со спецзаданием он уже не мог себя ощутить. Восемь дней назад, при явлении Кармадона, вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшим влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутное, но ощутил. Теперь же Данилов готов был стать чуть ли не опекуном Кармадону, так все в госте изменилось за неделю. Данилов погладил брюки, тут он услышал возглас Кармадона:
— Ну это уж слишком! "Синий бык — имп..!" Данилов, разве такое могло быть?! Даже и во сне?
— Как тебе сказать… — осторожно начал Данилов.
Кармадон швырнул на пол газету с заметкой о странном поведении принсипского синего быка, так швыряют рецензии, отметил Данилов, разобрав только, что рецензия ругательная, и не желая вдаваться в подробности. Из чувства протеста и самосохранения. Кармадон смотрел теперь на Данилова, и Данилов знал: Кармадон надеется, что он, Данилов, сейчас назовет газету бессовестной.
— Значит, было что-то… — сказал Данилов.
— Они врут! — возмутился Кармадон и взглядом превратил газету в туалетную бумагу. — Что же, и эта Синтия входила ко мне? И заявила, что бык — импотент? Да как она посмела! Да я разыщу ее теперь!..
— Она входила. И так сказала. И была возмущена быком Мигуэлем не меньше, чем ты теперь ею…
— О ужас! Ужас! — Кармадон закрыл глаза и откинул голову. — Я так мечтал побыть синим быком! И я ведь был синий бык!
— Да, ты был бык, — согласился Данилов.
— Нет, после такого позора мне надо проситься куда-нибудь на последнее дело! Пыль какую-нибудь пересыпать в канавах на Сатурне, чтобы дурачить звездо четов!
И Кармадон затих.
— Оставь эти мрачные мысли, — сказал Данилов. — У тебя еще все впереди. Успокойся.
— Нет, после этой газеты я не успокоюсь! Иначе мне хоть и не возвращаться с каникул… У тебя есть гантели?
— Есть, — сказал Данилов, — пятикилограммовые.
— Хорошо. Я начну с зарядки.
— Начни… Потом сходи в парную.
— И схожу. Я себя пересилю.
"А что, — подумал Данилов, — и пересилит…"
— Тоже мне Синтия! — покачал головой Кармадон. — И коровы этого Бурнабито! Небось какие-нибудь дохлые и забитые…
Однако вечером, вернувшись с исполнения "Барабанщицы", Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней — следы закуски. И запахи на кухне стояли чужие.
— Пил с кем-нибудь? — спросил Данилов.
— Да. В бане познакомился с двумя.
— Кто такие?
— Из вашего дома. Один водопроводчик. Коля. Другой из твоего театра. Скрипач. Земский. Николай Борисович.
— Да, — кивнул Данилов. — Земский у нас сегодня на больничном. Люмбаго.
Зад, что ли, он в бане-то грел?
— Нет, выше.
— И кем же ты им назвался?
— Твой детский друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молибдену.
— Сибирь большая.
— Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил в растение. Я ей объяснил, что я из
Иркутска.
— Что же, Иркутск — хороший город, — сказал Данилов. — Но ты опять не в духе?
— А-а-а! — махнул рукой Кармадон. — А может, это все от познанья?
— Что от познанья?
— Ну… — смущенно сказал Кармадон, — странный случай с Синтией и… другие странные случаи…
— Не понял.
— Может быть, бессилие мое от излишнего познанья?
В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой его дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. "А ведь он кроткий сегодня, — подумал Данилов. — Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с Земским, и с водопроводчиком Колей…" Тихая жалость к
Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку.
— Почему же именно от познанья? — спросил Данилов, спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни.
— Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубы и бессильны от познания!
— Зубы-то тут при чем? — искренне удивился Данилов. — Потом ты… то есть такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием. Да нами не надо. Мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суете некогда… Теоретики, мыслители, знатоки — они оттого и теоретики, что они изначально бессильны. Или успели обессилеть, вот и пошли в мыслители… Об облысении я не говорю. Это другой вопрос… Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить и по долгу службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлены, а тут. — Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики-мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день, но удержался.
— Ты не прав, — сказал Кармадон, и опять с печалью. — Это в нас уже не истребить. Это в нас — профессиональное, демоническое. Мы ведь, к несчастью, духи познанья. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден. До всего жаден. И, сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания! А они, может, меня и погубят! Может быть, они для меня окажутся больнее откровений аналитических натур! Ты прав, те и начинали с того, что были бессильны. А если обессилею я! Если я иссякну!
— Просто ты не спал у волопасов. Вот и вся причина.
— Нет, Данилов, это от познанья. От познанья!
Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой и отчаянный, спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить. То ли устал на "Барабанщице", то ли еще отчего. Он догадывался отчего. Много в его жизни скопилось больного, важного, такого, что Данилов обещал себе обдумать или решить. Однако в житейской суете он то и дело откладывал обдумывания и решения до лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все