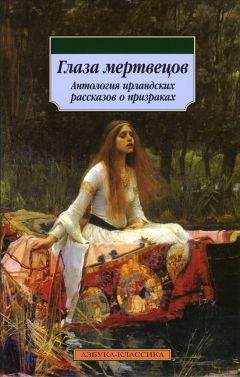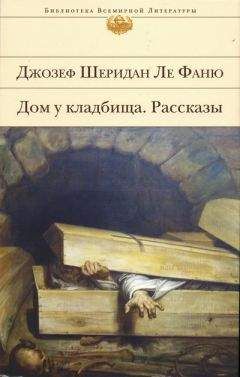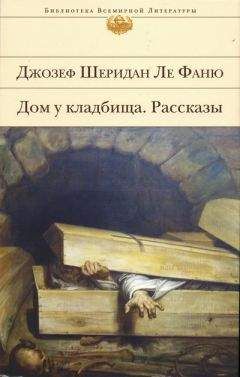В тот вечер он и Дадли надолго закрылись в комнате. Подозреваю, что отец просвещал сына в отношении психологии молодых леди, потому что со следующего утра, приходя к завтраку, я находила у своей тарелки букет, который совсем не просто было достать, ведь теплица в Бартраме давно обратилась в пустыню. Еще через несколько дней прибыл зеленый попугай в золоченой клетке; на конверте, который протянул мне посыльный, значилось: «Мисс Руфин из Ноула, проживающей в Бартраме-Хо и т. д.» В конверте я обнаружила только «Руководство по уходу за зелеными попугаями», которое заключала подчеркнутая строка: «Эту птичку зовут Мод».
Букеты я неизменно оставляла на столе, где их находила, птичку, по моему настоянию, Милли взяла себе. В течение тех двух недель Дадли ни разу не появлялся к ленчу, как прежде, не заглядывал в окно, когда мы сидели за завтраком. Удовольствовался он тем, что лишь однажды, облаченный в охотничий костюм, возник передо мной в холле и, с неуклюжей, деланной вежливостью сняв шляпу, сказал:
— Наверно, Мод, я нагрубил… ну, тогда. Уж так я разволновался, не больше дитяти понимал, что говорю. Я хочу, чтоб ты знала, я… сожалею и прошу простить… покорнейше, ага.
Я не могла придумать, что ответить ему, поэтому промолчала и с суровым видом прошла мимо.
Два-три раза мы с Милли, гуляя, видели его невдалеке. Но он никогда не пытался присоединиться к нам. Только раз он проходил настолько близко, что без приветствия нельзя было обойтись, и он остановился, молча приподнял шляпу, неуклюжий в своем старании проявить к нам почтение. Впрочем, и на расстоянии он всячески показывал, как он вежлив. Он открывал перед нами ворота, подзывал к себе собак, отгонял скот, а потом исчезал и сам. Однако, думаю, он иногда поджидал случай оказать нам такую услугу и вызвать благодарное чувство, ведь наши маршруты пересекались значительно чаще после того, как он сделал мне свое лестное предложение.
Можете не сомневаться, что мы с Милли постоянно возвращались в разговорах к этому происшествию. И как ни ограниченно было ее знание людей, теперь она ясно видела, насколько ниже достойного уровня оказывался ее питавший надежды брат.
Две недели истекли очень быстро — так всегда летит время, когда близится событие, которого мы желали бы избежать. Эти две недели я не виделась с дядей Сайласом. Наш последний разговор, когда дяде, как никогда, давался легкий тон, вселил в меня неведомый мне прежде страх и предчувствие опасности. С тревогой и унынием в душе на редкость хмурым днем я ожидала в комнате у Милли зова от моего пунктуального опекуна.
Глядя в окно на косой дождь и свинцовое небо, думая о ненавистном разговоре, который мне предстоял, я прижала руку к трепещущему сердцу и прошептала: «О, будь у меня крылья голубки, я бы упорхнула и нашла бы покой!»
Почему-то в ту минуту мой слух пронзило щелканье попугая. Я обернулась в сторону клетки и вспомнила слова: «Эту птичку зовут Мод».
— Бедная пташка! — сказала я. — Мне кажется, Милли, она хочет на волю. Будь она родом из наших краев, разве не согласилась бы ты открыть окно, а потом — дверцу этой чудовищной клетки, разве бы не позволила ей улететь?
— Господин желает видеть мисс Мод, — донесся неприятный голос Уайт из приоткрытой двери.
Я молча последовала за старухой, сердце мое сжималось в тревоге, как у человека, направляющегося туда, где его поджидает со всеми своими инструментами хирург.
Когда я вошла в комнату, сердце заколотилось, и так сильно, что я лишилась дара речи. Фигура дяди Сайласа высилась предо мной; я сделала неловкий реверанс.
Дядя метнул из-под бровей свирепый, яростный взгляд на старуху Уайт и надменно указал костлявым пальцем на дверь. Уайт вышла — и мы остались одни.
— Сядете? — произнес он, указывая на стул.
— Благодарю вас, дядя, я… я лучше постою, — запинаясь, проговорила я.
Он тоже стоял — наклонив вперед белую голову, устремив на меня исподлобья взгляд своих странных фосфорических глаз, а кончиками ногтей касаясь стола.
— Вы видели — багаж увязан, снабжен адресом? И стоит в холле, готовый к отправлению, — проговорил он.
Да, я видела. Мы с Милли читали бирки, свисавшие с ручек чемоданов и чехла для охотничьего ружья. Адрес значился такой: «Мистер Дадли Р. Руфин. Париж via[75] Дувр».
— Я стар, я волнуюсь… от близости минуты, когда прозвучит столь важное решение. Прошу, положите конец мучительной неопределенности. Должен ли мой сын сегодня покинуть Бартрам в печали, или он остается, ликуя? Прошу, отвечайте скорее!
Я что-то пролепетала… что-то невразумительное, возможно даже нелепое, но подтверждающее неизменность моего решения. Мне показалось, его губы делались все белее, а глаза разгорались все ярче.
Когда я добралась до последнего слова, он издал тяжелый вздох и, медленно поведя глазами вправо, потом влево — как человек в полном отчаянии, — прошептал:
— Да свершится воля Господня!
Я подумала, что вот сейчас он потеряет сознание, — бледное лицо его приобрело землистый оттенок; казалось, забыв о моем присутствии, он сел и устремил безнадежный взгляд на свою старческую серую руку, лежавшую на столе.
Я стояла, смотрела на него и чувствовала себя почти убийцей старого человека, а он по-прежнему не отрывал глаз от своей руки, и его взгляд был безумен.
— Я могу уйти, сэр? — наконец осмелилась я спросить шепотом.
— Уйти? — проговорил он, вдруг подняв глаза. Мне показалось, что из них хлынул холодный туманный поток света и на мгновение окутал меня пеленой. — Уйти? О да… да, Мод… уйдите. Я должен увидеть бедного Дадли перед его отъездом, — добавил старик, будто разговаривая с самим собой.
Опасаясь, как бы он не отменил позволения уйти, я быстро и бесшумно выскользнула из комнаты.
Старая Уайт держалась поблизости — делала вид, что стирает тряпкой пыль с резной дверной рамы. Старуха окинула меня любопытным взглядом из-под морщинистой руки, когда я выходила. Поджидавшая меня Милли устремилась мне навстречу. Когда я закрывала дверь, мы обе расслышали голос дяди Сайласа, призывавшего Дадли. Вероятно, Дадли скрывался в смежной спальне. Под охраной Милли я поторопилась в свою комнату, где нашла облегчение после пережитого волнения в слезах, как то и свойственно девушкам.
Чуть позже мы видели из окна Дадли: очень бледный, как мне показалось, он сел в экипаж, на верху которого едва хватило места для его багажа, и покинул Бартрам.
Я начала успокаиваться. Его отъезд был несказанным облегчением для меня. Его окончательный отъезд! Долгая и далекая поездка!
Вечером мы пили чай в комнате у Милли. Пламя камина и свечей действует на меня ободряюще. В этом алом вечернем освещении я всегда чувствовала и чувствую себя в большей безопасности, чем при свете дня, что странно, ведь нам известно: ночь — пора тех, кто любит тьму и не любит света, это пора, когда поблизости бродит зло. Но, возможно, само сознание опасности, подстерегающей снаружи, усиливает нашу радость в ярко освещенной комнате — как буря, ревущая и завывающая над крышей.
Очень уютно устроившись, мы с Милли болтали, как вдруг послышался стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла старуха Уайт. Хмуро глядя на нас, уцепившись темными когтистыми пальцами за дверную ручку, она сказала Милли:
— Хватит веселиться, мисс, вам черед у отца быть.
— Он болен? — спросила я.
Она ответила, обращаясь не ко мне, но к Милли:
— Два часа мучается в припадке — как господин Дадли уехал. Сдается мне, помрет бедняга. Я сама горевала, глядя, как господин Дадли уезжал в сырость-то такую. И без того столько уж бед на эту семью свалилось! Да, семье конец подходит, так думаю. Беда за бедой, беда за бедой — вслед за последними переменами.
Судя по ее мрачному взгляду, при этих словах брошенному на меня, именно я олицетворяла собой «последние перемены», с какими связывались все печали дома.
Нерасположение даже такой ужасной старухи меня обидело, ведь я, увы, принадлежала к тем несчастным созданиям, которые не способны держаться равнодушно, когда того требует разум, и всегда жаждут доброты, пусть и от самых ничтожных людей.
— Надо идти. Вот бы ты, Мод, со мной пошла! Мне одной так страшно… — проговорила Милли.
— Конечно, Милли, — ответила я упавшим голосом — ведь вы догадываетесь, что я тоже боялась, — тебе не придется сидеть там одной.
И мы пошли вместе, а старая Уайт по пути заклинала нас не шуметь.
Мы прошли через кабинет старика, где в тот день состоялся его краткий, но столь важный разговор со мной, где он прощался с сыном, и вошли в спальню.
В камине горел неяркий огонь. Комната почти погрузилась в сумерки. Кроме тусклой лампы на полу у дальнего конца кровати, комната ничем не освещалась. Старая Уайт потребовала, чтобы мы говорили только шепотом и не отходили от камина — разве больной позовет или совсем обессилеет. Таковы были распоряжения доктора, навещавшего дядю.