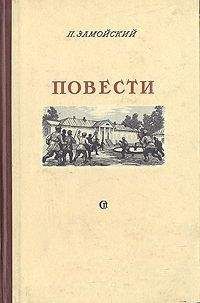— Что же тебе посоветовать? — спрашиваю.
— Как с рожью — самому косить или отдать?
И полагая, что я все уже знаю, он не мне, а отцу поясняет:
— Маслобойщику Павлову прошлый год сдал я полдесятины под озимь. Рожь‑то хороша. Пудов тридцать пять на полдесятине будет. Семян он высеял четыре пуда, работа его… тоже пуда три… а двадцать пять пудов на бедность отдать? Чай, Иван, жирно.
— Коси сам! — вдруг расхрабрился мой отец. — Право слово, коси! И не пикнет. У тебя, мол, нужда была, сын хворал. Семена отдай и за работу отдай. Пес с ним. Ишь, глядеть теперь на них. Как, сынок?
Я смеюсь.
— А так, как и ты, — говорю. — У тебя же, отец, голова министра–бедняка!
Они переглядываются и опять смеются, эти два старика, два пастуха. А я советую Ванькиному отцу завтра же пойти на загон, скосить рожь и не отдавать ее Павловым.
И тут же думаю: комитет должен постановить, чтобы все арендованные земли с хлебом вернуть тем, кто их от нужды продал или сдал.
Едем мы с Григорием тихо. Августовское солнце даже перед вечером печет немилосердно. Всюду на полях уборка хлебов.
Трое суток продолжалось собрание уполномоченных. Теперь избрана волостная земская управа. От нашего села в управу попали мы с Григорием.
Григорию придется часто выезжать во Владенино, а может быть, и совсем остаться там работать. Но ему не хочется уезжать из своего села, и я не хочу, чтобы он уехал.
Григорий рассказывает о своих странствованиях. В последний раз был в бою на Балтийском море, где его и ранило. Рассказывает Григорий, не хвалясь, как другие. Только чувствуется — все, что он испытал, закалило его характер. Он с уверенностью смотрит вперед. И не подумаешь, что это тот самый Гришка–матрос, который когда‑то буйствовал, придя домой.
Я осторожно навожу его на разговор о домашнем. Очень интересно, как он все это пережил. Я даже на миг не могу представить себя на его месте. Пусть выдают там Лену, за кого хотят, но что если бы я, уже будучи ее мужем, пришел с войны и глядь: Лена за другим! Ревность, гадливость, отвращение охватывают меня. Нет, с таким характером лучше не жениться. Я даже Соню почему‑то начинаю ревновать. И к кому? К Павлушке! Чуть посмотрит на него или поласковее заговорит, а меня уже бросает в дрожь. Но Павлушка равнодушен к Соне. Он увивается возле Насти. А где‑то теперь Макарка, за которого ее чуть не выдали? Воюет. Пусть защищает отечество…
— Ас Дуней мы хорошо, — говорит Григорий, — ее вины в том нет!
— Знамо, нет, — подхватываю я.
И снова разговор идет о том, что волнует теперь всех, — о будущем.
Мы гадаем с Григорием — что скажет Учредительное собрание, о котором кричат газеты? Как решат вопрос о земле? Вдруг придется вернуть? Или потребуют выкуп?
Мысли текут извилисто, беспорядочно. Вспоминаю книгу, которую недавно читал, о том, как при коммунизме будут жить люди, как работать и распределять богатства. Всего будет много — и одежды, и обуви, и еды разной. Захотел костюм — бери, обувь — тоже. Только делай то дело, которое любишь. Земля велика, всего на ней и в ней много. А что человеку нужно? Зачем ему лишнее? Не понимаю буржуев. Куда они загребают про запас? Работать не хотят? Как же так… Сидеть сложа руки? Это же скучно! Другое дело, если работы мало или совсем не окажется. Тогда от безделья тоска заест. Но работы хватит. И главное, все будут равны: мужик, учитель, врач, инженер.
— Хорошо! — говорю я вслух.
— Что хорошо? — оборачивается Григорий.
Рассказываю ему.
— А ловко получается, — радуется матрос. — Но так не скоро будет.
— И лет через десять не будет?
— Рано.
— А через сорок?
— Обязательно.
— Мы с тобой, Гришка, доживем…
— Доживем, — соглашается он. — Главное, нам в первую очередь гидру капитала раздавить.
— Буржуев?
— Их. Они весь мир испакостили.
— Тут надо сразу взять, — говорю я, — огулом, и — в овраг.
Григорий смеется.
— Правильно, сразу. Чтоб океаны задрожали. Землю перевернуть и потрясти ее над самым адом.
— Чтобы туда всех буржуев?
— Их!
— Так! Но какую же силу надо иметь, чтобы трясти?
— Класс!
Он очень твердо произносит это слово. Так произносит, что чувствуешь за ним что‑то огромное, корнями вросшее в землю.
— Керенский — сволочь! — продолжает Гришка, — Ленина хотел арестовать. Смертную казнь ввел. Заодно с Корниловым. Но сметет их класс к чертовой бабушке!
Мы миновали отрубные выселки, первыми согласившиеся соединить свою землю с общественной. Вог и паше село.
Дома меня ждали ужинать. Отец и мать что‑то очень веселые. На столе — огурцы, редька, лук и, к моему удивлению, вяленая вобла.
— У вас что, праздник? — киваю на стол.
— Вроде, — говорит мать, — садись, заждались.
Когда уселись, отец посмотрел на мать, она на него, перемигнулись. Отец встает, идет за голландку.
— Что это у тебя, отец? — спрашиваю его.
— С покончанием ржаных, — смеется он, вынимая пробку из бутылки. Наливает в чайную чашку, подносит: — Пей всю сразу.
— А сами?
— Мы… чуток до тебя.
Так вон почему у них глаза блестят, — и я хватил. Хватил, и дух у меня занялся, глаза на лоб полезли. Куда там «всю»!
— На, на, скорей, — сует мне мать огурец, — протолкни.
Я действительно еле «протолкнул» и, вытирая слезы, спросил:
— Это… самогон такой?
— Чистый шпирт! — похвалился отец.
— Откуда?
— У Ладыженского цистерну вычерпали.
— И ты ездил?
— Куда–а мне! Ты допивай, а то он сразу выветрится, — посоветовал отец.
Он уже от кого‑то прознал, что спирт «выветривается».
— Что же, отец, много наших ездило?
— Господи благослови, — начали.
— «Благослови»… как бы их там солдаты не благословили.
— Нет, они стакнулись с ними.
— Опять поедут?
— Раз начали, знамо, не оставят.
После ужина я вышел на улицу. Теплая лунная ночь. Слышны песни, гармоника.
В мазанке густо пахнет сеном, дубовыми листьями. Мать заготовила на зиму веников. Они висят на перекладине и, неведомо отчего, тихо шуршат. Подо мною душистое сено. Голова слегка кружится. Ложусь, как на сеновале. И запах трав и дубовых листьев пьянит сильнее вина.
— Читай протокол! — охрипшим голосом говорит Григорий.
Народ стоит возле нашего стола, сидит за партами. В открытые окна из учительского сада уставились ребятишки. Жара, духота. Я, охрипший от речей и крика, встаю, смотрю на Филю, — у него свирепое лицо; на Степку Ворона, — мрачные очки; на Павлушку, — как всегда, он улыбается. И я, обращаясь к вдовам, к солдаткам, начинаю читать писанный мною под шум и гвалт народа протокол. Начинается он хитрыми словами. Не только для наших богачей, мельников, отрубников я так составил его, но, главным образом, для уездной продовольственной управы. Обсуждали закон о хлебной монополии. Вчера в комитете долго думали мы о нем. Было два предложения: совсем не собирать хлеба — тогда пришлют отряд, хлеб возьмут, но уже у всех, проводить — значит, поддержать правительство, — пусть хоть бы каплей, — а наш комитет не из таких людей. Выходило — не подчинимся, комитет разгонят; подчинимся — стало быть, за Временное правительство. И все‑таки лучше, если в село не приедет отряд.
— «Чтобы не допустить в свободной России голода, которым банкиры и купцы грозят задушить революцию, считая, что армия должна быть способна бороться за свободу и землю, которая будет принадлежать всему крестьянству безвозмездно, — мы — революционное трудящееся и беднейшее крестьянство — постановляем: хлеб, учтенный комитетом в излишках, сдать по твердым ценам. Освободить от сдачи беднейшее крестьянство, неимущих вдов, сирот, инвалидов и солдаток. Освободить их совсем, согласно приложенному списку № 1. Изъять хлеб у тех, у кого он в излишестве, а именно у богатейшего населения: мельников, отрубщиков, испольщиков, у духовенства, лавочников и прочего люда согласно приложенному списку № 2, с указанием количества едоков в семье и пудов излишка».
Недолго молчал народ. Но теперь кричали те, кто сообразил, что они попадают во второй список. И когда чуть угомонились — кричал только Гагарин Николай да ему вторил раскрасневшийся лавочник Блохин, — Григорий стукнул кулаком по столу.
— Правдиво наше постановление, трудящаяся массыя?
— Чего с нас взять! — откликнулись солдатки.
— Поддерживает нас беднейшее крестьянство? — осведомился матрос и грозно посмотрел на Гагару.
— Поддержим, не упадете, — крикнул кто‑то из мужиков.
Но Григорий не унимался.
— Идет ли поперек революции наш протокол?
— Волки сыты и овцы целы, — заметил пастух Лаврей. — А теперь читай дальше, — кивнул он мне.