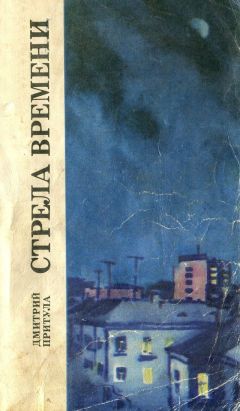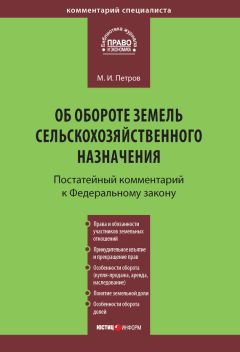В полутора километрах в гору находилась дирекция большого совхоза, на опытных участках которого и работали сейчас экспериментальные виноградоуборочные машины.
Николай Филиппович приехал днем и сразу пошел работать — уверенность, что работа лечит любые неурядицы, была в нем сильна и сейчас. Теперь Николай Филиппович испытывал легкое нетерпение, даже, можно сказать, веселое возбуждение — это, знал он, требуют выхода его конструкторские способности. В том, что они у него есть, эти способности, и в количестве не таком уж малом, Николай Филиппович никогда не сомневался. Сейчас Николай Филиппович очень надеялся, что новая работа потребует напряжения этих способностей и тем самым поможет скоротать смутное время.
Однако двух часов работы хватило, чтоб понять — машина скудна и бездарна. Николаю Филипповичу случалось видеть машины и поумнее. К тому же эта была чужой, бюро Николая Филипповича делало транспортер; расспросив механиков, Николай Филиппович узнал, что транспортер безотказен, нагрузку выдерживает успешно, и ему стало скучно.
Но он не дармоед, ему положено сделать определенную работу — менять режимы и прочее, что входит в понятие эксперимента, — он все сделает на совесть, но не нужно требовать, чтоб мысль его подле машины блаженствовала от сознания ее — технических совершенств.
С работой он справлялся часа за четыре. Выходил к восьми, к двенадцати дело кончал, бродил немного по участку да и спускался вниз. Там наскоро обедал в кафе «Лето», потом забегал в дом, где совхоз снимал для него веранду, переодевался и шел на пляж.
Это и было главной ошибкой Николая Филипповича. Ему бы работать безостановочно, чтоб душе не оставалось забот самоличных, а он освобождал ее для солнца и теплой покуда воды — вот она, непоправимая ошибка.
Потому что постоянное нетерпение вселилось в Николая Филипповича. Он брал лежак, бросал на него брюки и рубашку, сам же лежать не мог даже малое время, нет, вскакивал, старался долго плавать, чтоб утомиться, прогнать беспокойство, на короткое время это удавалось, но затем, словно ужаленный, он вскакивал с лежака и торопливо, ссутулившись, шел берегом моря. Должно быть, странное впечатление производил он на загорающих людей — немолодой человек, животик чуть обозначился, ноги слабоватые, а он все мечется по пляжу, не зная покоя.
И сознавал Николай Филиппович — да, он странен не только посторонним людям, но и самому себе.
Николай Филиппович собирался уже уходить с пляжа — было, это в первый же вечер, — надел брюки и рубашку, но, томимый неясным предчувствием, снова сел. Сидел неудобно, обхватив руками ноги, подбородком упираясь в колени, и, не отводя взора, смотрел вдаль на падающее в море солнце.
То был миг совершенно ясного зрения, когда кажется, что время замерло, как это огромное солнце на миг затормозило свое падение. Тугое, оно весь день впитывало влагу моря, отяжелело, но у него достало сил притормозить, чтоб напомнить всякому человеку, что, может статься, он более не увидит такого заката.
Николай Филиппович сидел под железнодорожной насыпью, над головой мчался поезд, где-то за аркой начали жарить шашлыки, и запах дыма и свежего мяса пропитывал воздух. Николай Филиппович вспомнил рассуждения Сережи о времени, но сейчас его не интересовало время ни в микромире, ни в мегамире, его интересовала только стрела времени, вошедшая в его собственную грудь.
Мгновение задержанного времени кончилось, оно и солнце за ним следом сняли тормоза и устремились далее, солнце врезалось в податливую воду, и вот остался лишь кровавый сияющий сегмент его, и небо и малые облака залиты были кровью, но вот и ободок кровавый пропадать стал, лишь пожар вдали, пожар последний — и погасло — все! — солнцу конец, дню конец, жизни конец.
На лицах людей читалась печаль, Николая же Филипповича охватила не печаль, что вот его жизнь малость еще укоротилась, но тоска. Она хоть и была такая сильная, что Николай Филиппович готов был заплакать, но и неясная, смутная, так что он не мог сказать, о чем же тоскует — о семье, об Антонине Андреевне или о не вполне задавшейся жизни.
Он побрел домой, обессиленный потрясением от вида закатного солнца.
Вечер тянулся медленно. Николай Филиппович пробовал читать, потом вышел на крыльцо. Застекленная веранда имела отдельный вход. На горе тускло блестели огни, вдали по шоссе скользили горящие фары, в саду было темно, начали позванивать цикады, в кукурузнике за садом томно клокотали индюки; Николай Филиппович так бы и просидел весь, вечер, коротая одиночество, но вдруг до него доплыла дальняя музыка — это на турбазе «Заря» люди танцуют, где-то стоит веселье, идет привычная жизнь, и Николай Филиппович встал, чтоб хоть немного приблизиться к чужому веселью и тем смягчить горечь одиночества.
На стиснутом горами шоссе застоялись дневная жара и запах бензина. Звезды висели низко над головой и светили ярко. Небо было как бы смещено и запутано.
На танцах играли мальчики — две гитары, аккордеон, ударник, — они называли себя «Ритмы века». Танцплощадка задохнулась от копошащихся тел, когда мальчики заиграли и запели «Мясоедовскую улицу». Николай Филиппович давно не наблюдал массового веселья и удивился всеобщей раскрепощенности — всякий дергался, как хотел, и главное — как мог: танцевали парами, компаниями и даже, как он понял, туристскими группами. То веселилась молодежь, но были и взрослые, даже несколько человек возраста Николая Филипповича — они приехали на юг сбросить домашние заботы и, попав под гипноз массового веселья, совсем умудрились забыть про возраст и прежние заботы. Сперва Николаю Филипповичу стало за них стыдно — нельзя так самозабвенно примазываться к молодежи, но потом ему стало завидно — вот веселятся, как умеют, а он одинок.
Потом мальчик запел песенку «Не целуйся», и это был сигнал отдохнуть от ритмов века, мальчик пел: «Не целуйся, слышишь, не целуйся, не целуйся, слышишь, без любви», — но пары его не очень-то понимали и как раз вовсю целовались.
А потом снова большое копошение началось. А Николай Филиппович ни одной песни, что игрались здесь, не слышал прежде, и оттого он почувствовал себя здесь вполне чужаком. Он не был высокомерным, дескать, распустилась молодежь, он не завидовал и чужому юному времени, он здесь был именно человеком чужим, и тогда Николай Филиппович ушел.
Женился Николай Филиппович рано, а по тем послевоенным годам так и слишком рано — на третьем курсе института. Эти танцы в городском саду, тайна чужих знакомств, музыка модных пластинок висит не только над садом, но над городом, эти «Брызги шампанского», эти «Когда простым и нежным взором ты на меня глядишь, мой друг», этот бой часов перед знаменитым вальсом: вот шестой удар, восьмой, двенадцатый — сейчас начнется, — и начиналось печальное кружение. А вальсы эти под гавайскую гитару, а козинское «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане»; он хотел бы, как те моряки и солдаты, ходить на танцы, кружиться с девчонками со швейной фабрики, провожать их до общежития и перед прощанием суетливо целоваться, но понимание того, что приятели станут над ним смеяться — ему, студенту, положено ходить на институтские вечера, а не в городской сад, — останавливало его.
А те долгие, под пение, под звон гитар поцелуи во внезапно обрушившихся на провинциального зрителя трофейных фильмах…
Группы в технических вузах были мужские или почти мужские. На двадцать пять ребят было две-три девочки, и Люда из всех была не просто звездой курса, но и, без сомнения, звездой института.
Николаю Филипповичу не пришлось пострадать от неразделенной любви, не он избрал Люду, а она его. Он бы не осмелился влюбиться в нее и попытаться сблизиться — Люда была очень на виду. Она обратила на него внимание потому, что он был сильнейшим на курсе математиком, она же из-за постоянной занятости делами общественными — культсектор профкома — с математикой справлялась с трудом и с опозданием, и она избрала его, чтоб заниматься вместе. Да так уж больше и не разлучались. А прошло почти тридцать лет. И никогда Николай Филиппович не жалел, что Люда избрала именно его, нет, считал, что ему необыкновенно повезло, представить не смел, что на месте Люды могла быть другая женщина, что он мог избрать другой институт, и тогда бы они не встретились. Но так быть не могло, потому что у всякого человека есть своя судьба, и Людмила Михайловна — судьба Николая Филипповича.
Несколько лет жили они в пятнадцатиметровке вместе с матерью Николая Филипповича. Сережа появился, когда они учились на четвертом курсе, Люда умудрилась не отстать от курса. Как они уж вчетвером сумели прожить на стипендии и материнскую бухгалтерскую зарплату, этого сейчас понять невозможно, в полном смысле: хлеб да каша — пища наша. Он, конечно, натаскивал недоумков-десятиклассников, но это, что же, — обед да сто рублей (по тем деньгам, разумеется) в месяц, ходил круглый год в лыжном костюме и парусиновых туфлях, у Люды была одна юбка, танкетки и ботики. Уж как пробились, ума не приложить. Да при бешеных очередях за хлебом и молоком.