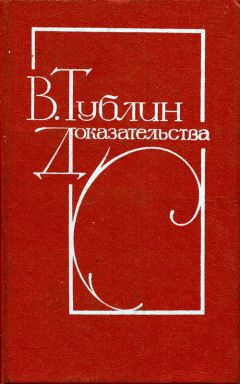— А мне не нравится, как вы это сказали.
Ему и самому не нравилось. Он стоял и молчал.
Потом он спросил:
— Я вам больше не нужен? Я могу идти?
— Да, — сказал Зайцовский. — Вы можете идти. Нет, чертежи оставьте.
После чего он и оказался вновь на лестнице, но, конечно, спешить наверх ему не было никакого смысла, он просто шел, шаг за шагом, и вдруг подумал, что устал неизвестно отчего, и хотя он не верил в предчувствия, что-то не так все происходило сегодня… Навстречу ему, перепрыгивая через три ступеньки, неслись два стоялых жеребца, два инженера из отдела канализации, и трудно предположить, что бы с ним стало, если бы они не тормознули в самый последний момент. Они выкрикивали что-то несуразное, и лица у них были распарены, как после бани, и Блинов вполне мог предположить, что каждый из них выиграл по «Москвичу» или угадал все шесть цифр в «Спортлото». Но он еще хотел только спросить, что же такое случилось, из-за чего человека чуть не сшибают с ног, как один из этих двух, то ли в виде компенсации за испуг, то ли от избытка чувств, подмигнул Блинову и сказал — нет, выпалил:
— Уже слыхали?
— А что, — спросил Блинов с какой-то странной надеждой, — что случилось? Пожар?
Тут оба посмотрели на него. Блинов ясно прочитал в их взгляде, как он стар и как им обоим жаль его. А может быть, это ему показалось, насчет жалости, и им было вовсе его не жаль.
— Веденин выиграл тридцатку, — сказал тот, что пониже, и, пока Блинов соображал, пока говорил: «Что?.. кто выиграл?» — пока вспомнил, что начались ведь Олимпийские игры, тех двоих уже и след простыл, а топот и грохот раздавались где-то далеко внизу.
Он ошибся, конечно, насчет жалости.
— Вы слышали новость? — сказал Блинов кассирше. — Веденин выиграл тридцатку.
Перламутровые ногти осторожно подтолкнули ему ведомость.
— Да, — сказала кассирша. — Конечно. Веденин первый, Тилдум второй, Симашов — шестой, Скобов — двенадцатый… — Перламутр вспыхивал и переливался, большие золотые серьги в ушах плавно качались в такт ее словам. — Да, — сказала она, — только что передали. По радио.
Она смотрела, как Блинов расписывается, смотрела и никак не могла вспомнить, женат он или нет. Потом она посмотрела на его закорючку и пододвинула ему пачку разноцветных бумажек.
— Сто три рубля, — сказала она. — Пересчитайте.
Блинов спросил:
— Так что, вы говорите, шестой — Скобов?
— Нет, — сказала она, и серьги ее вновь качнулись. — Скобов — двенадцатый. А шестой — Симашов.
— Спасибо, — сказал Блинов и сунул деньги в карман.
Кассирша долгим взглядом смотрела ему в спину, пока он шел — высокий, поджарый, чуть сутулый, и серьги ее качались в такт мыслям. Но она так и не вспомнила, женат он или нет.
«Спрошу в отделе кадров у Зины», — решила она.
А он шел и думал: да, все правильно. И, может быть, в конце концов когда-нибудь — не сейчас, конечно, не сразу, не здесь, но в отдаленном будущем — он поймет и объяснит себе все же, почему люди время от времени говорят вместо «да» «нет», как это, к примеру, сделал Артавазд, сын царя царей Тиграна. Может быть, думал он, придет время, и найдется вдруг человек, который объяснит не только это, но заодно уже и многое другое, что происходит на свете. Объяснит, например, почему для любви, одной-единственной на свете, просто для преданности — нет гарантий, как нет границ у тоски, которая приходит по ночам, когда ты беззащитен. Но чего он не мог себе представить и на что не мог надеяться, это на то, что кто-нибудь когда-нибудь объяснит, что́ он сделал не так. Объяснит, наконец, за что он обречен, мучаясь, ловить, хватать маленькую, исчезающую, растворяющуюся в воздухе, подобно облачку, надежду — день за днем и час за часом; делать это с горечью столь уже устоявшейся, что в ней появилась даже какая-то необходимость, как в ритуале. Кто и когда скажет, долго ли еще продлится это, долго ли ему чувствовать себя лодкой, которой для спасения, для сохранения, так сказать, жизненной плавучести надо только за одним смотреть и об одном заботиться — о том, чтобы не допустить пробоин, которые разрушат избранную раз и навсегда форму существования.
И еще ему подумалось: а может быть, случайностей вовсе нет в нашей жизни? Может быть, то, что мы принимаем за случайность, есть не случайность вовсе, а какой-то намек, может быть, косвенный, а может быть, прямой и недвусмысленный, на разгадку тайны, что мучает нас? Может, это даже просто ключ к тайне, что-то вроде трехъязычной надписи, которая помогла в свое время разгадать тайну иероглифов? Но мы проходим мимо этого намека, считая его не относящимся к делу, в то время как на поверку никаких случайностей нет, а просто мы не готовы, не поняли, не сумели воспользоваться этим намеком. И любой ответ на любой вопрос человек может найти лишь тогда, когда он найдет свое место в бесконечных, теряющихся во времени нитях истории, когда поймет, что и сам он — один из узелков, из которых состоит эта нить, проходящая через века, народы, местности, а может быть, поймет и то, что весь смысл нашей жизни и состоит именно в том, чтобы не прерывать, тянуть и тянуть дальше — каждый свою — ниточку с тем, чтобы передать ее потом кому-нибудь дальше, в будущее, не оборвать ни подлым поступком, ни излишней поспешностью, ни слишком явно выраженным недоверием к жизни.
— Да, — сказал он, отвечая на ходу, — да, знаю. Веденин первый.
— А второй, второй кто?
— Тилдум, — сказал он. — Тилдум второй.
— А Скобов?
— А Скобов двенадцатый.
— А шестой, шестой кто? Передавали, что кто-то из наших шестой…
— Симашов, — сказал он. — Шестой Симашов… — и он все шел и шел через отдел, высокий и чуть сутулый, и на лице его нельзя было прочесть то, что он думал в этот момент и во все предыдущие моменты, и уж никак нельзя было предположить, что он не просто идет по своему отделу к телефону и не просто отвечает на вопросы, но и тянет еще за собой — неведомо из какого далека — тонкую, бесконечную ниточку из тех времен, что открылись ему в случае с Артаваздом, но вполне может быть, что и еще из более отдаленных.
— Да, — сказал он в трубку, — я слушаю.
И тут Тамара — конечно, это была Тамара — сказала, — и тут он снова не понял, что за звук доносит до него трубка и что она, Тамара, сама делает там, за дверью, если только телефон-автомат стоит еще там, где хоть как-то можно спастись от шума: смеется она или плачет… Да, она говорила каким-то прерывающимся странным голосом, а он все ждал и не мог понять, что с ней, не мог догадаться. А она все начинала: «Колька, — говорила, не то смеясь, не то плача, — Колька, ты что, забыл… — и опять: — Ты меня слышишь?» И он, испугавшись даже, все прижимал и прижимал трубку к уху и безучастно глядел на какую-то бумажку, которую ему подсунули слева — с шестью цифрами, с телефоном, которого он никогда раньше не видел и не слышал, с надписью под цифрами: «Просили позвонить, когда вернетесь…» Он рассмотрел, успел кивнуть и сунул бумажку в карман. Но тут все разъяснилось; откуда-то издалека он услышал: «Колька, а ты ведь и вправду забыл». И тут он сказал: «Да, да, я слышу. Что случилось?»
«Да ведь тебе сегодня сорок лет», — сказала там, у себя, Тамара, его сестра, и снова раздался этот звук, и тут наконец он понял, что это за звук, понял, что это вовсе не смех, и он испуганно сказал, прикрывая трубку рукой: «Ну что ты, что ты, что ты… Ну, Томка…»
Точно так же, как до него произнес эти слова Модест, с которым они когда-то вместе бегали здесь, среди пахнущих разогретым маслом и пряжей машин. «Томка, — сказал Модест, — Томка…»
А она — нет, она не почувствовала, не поняла и не вспомнила — может быть, только удивилась действию, что оказали вдруг на постаревшего раньше времени, ничего на свете не боящегося Модеста ее сказанные в нетерпении, в отчаянии слова. Она не помнила, забыла — да и зачем, к чему ей было помнить те давние дни, не время ей было об этом вспоминать, не время и не место. День набирал темп. И это была жизнь. Жизнь, со всеми ее радостями и несообразностями, которые потому и несообразны, что живое, стремительное течение жизни не может быть приведено в полный и холодный порядок. И если бы за рабочую смену, за эти восемь часов у нее было хоть несколько минут для свободного философствования, она, как и всякий другой, безусловно додумалась бы до этой простой и на поверхности лежащей мысли. Беда была в том лишь, что этих минут у нее не было — ни вчера, ни позавчера, а уж о сегодняшнем, самом распроклятом из распроклятых дней, нечего и говорить.
В тот самый момент, как новоявленный Иона — Модест исчез в металлических внутренностях машины, она собралась перевести дух, чтобы вспомнить самое необходимое из того, чем придется ей заняться через пять и десять минут, и не забыть того, что она помнила с самого утра. Но куда там. Эта жизнь сейчас не оставляла времени даже на самое необходимое, и она снова кричала в трубку: «Кто? кто?» — а рука ее записывала номер машины, с которой пошел брак, и, прижимая трубку плечом, она уже писала подбежавшей помощнице: «Останови машину — идет брак». А сама все пыталась вспомнить фамилию этой новенькой, и все не могла, и, только положив трубку, вспомнила — Панкова Катя, и еще вспомнила — словно анкета отдела кадров встала у нее перед глазами: 1950 года рождения, не замужем, дочке два года. И глаза — испуганные, беззащитные глаза. И когда она подошла к машине, той самой, которая в этот миг превратилась в неподвижный кусок железа: ни одна нить не шевелилась на катушках, длинный, безжизненный рукав повис, как хобот, над зеленым брезентовым мешком, и сама виновница стояла понурив голову и в глазах ее была та самая покорность и готовность снести все, что ни выпадет ей от судьбы, что́ она могла, как не сказать ей только: «Ах, Панкова, Панкова», да еще махнуть рукой и отвернуться, чтобы не видеть эту покорность, чтобы не закричать на нее, не выругать самыми грубыми словами.