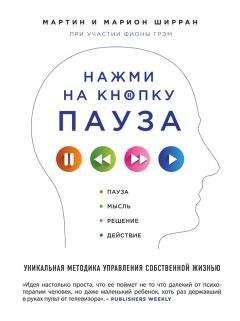Поразмыслив, Новиков раскрыл рюкзак пошире, и начал приносить жертву богам этой реки.
Посолил воду, посластил, насыпал чаю с макаронами, бережно запустил кастрюлю, но она отчего-то не поплыла, а сразу чавкнула водой и бочком пошла в гости к биноклю.
— Где тут моя персидская княжна прячется? — хрипло, вслух — чтоб не расплакаться, спрашивал Новиков, запуская руку в рюкзак поглубже, — Княжну тоже надо утопить.
Княжны не было.
Нашёл в кармане куртки какие-то клочки — оказалось материнское письмо. Вытряхнул и его. Клочки поплыли, набухая и тяжелея.
Новиков достал отцовский нож, и некоторое время разглядывал свои вены на левой руке, одновременно слизывая кровь с правой.
— Все норовят в ванную залезть, а мы в реке сейчас вскроемся… — сказал Новиков ласково.
— Что, напугались? — спросил неизвестно кого, бесновато глядя по сторонам.
Повертел ещё нож в руках и резко забросил его в воду.
Лёг на дно лодки и поплыл.
Дед напоил Новикова самогоном.
Новиков наврал ему, что перевернулся, и выплыл потом.
На самом деле, лодка причалила сама, через несколько минут. Весло тоже прибило к берегу. Новиков притащил лодку обратно к деду, распевая по дороге «А я еду… а я еду… за туманом…»
Очень надеялся, что дед не станет смеяться, но деду вообще было всё равно.
— Деталь мою тоже утопил? — только спросил он, когда уже сидели за столом.
— Деталь? — Новиков начал шарить по карманам, и тут же, в джинсах, нашёл.
— Дай-ка, — сказал дед, — Я сам отцу отдам. Он же ж приедет в сентябре?
Новиков кивнул и ещё выпил рюмку.
— Щуку что ль поймал за хвост? — спросил дед, кивая на кровоточащую руку Новикова.
Новиков снова кивнул, и снова налил.
К ночи был совсем хорош.
Откуда-то заявился котёнок, вспрыгнул сначала на колени к Новикову, потом перебрался на стол, ходил там между ложек и тарелок. Принюхался к рюмке и дёрнулся маленькой своей башкой, словно там обнаружился пылающий уголь.
— Мир разваливается на куски, дед, — сказал Новиков громко, но деда нигде не было, он куда-то исчез.
Новиков поискал собеседника и повторил:
— Мир разваливается на куски, кот.
Котёнок полез в сковородку и, выхватив кусок картошки, начал есть её прямо на столе, иногда, не без наглецы в глазах, озираясь.
— Вкусно жить, котейка? — спросил Новиков, — А знаешь, как больно, когда бутылкой по лицу? — тут он взял пустую пластиковую бутылку из-под несусветного какого-то лимонада со стола, и начал размахивать ей по-над кошачьей головой. Котёнок присел, но, скорей, от удивления, нежели от страха.
— А может, это я, человека убил, котейка? — заглядывая под стол, допрашивал всё-таки сбежавшее животное Новиков, — За что это всё мне — должно ведь быть какое-то объяснение? Может, это действительно я? Потому что, если это я убил — тогда мне будет легче жить! Гораздо легче, чем сейчас!
— Ты с кем тут? — спросил дедок, заходя.
Новиков оглянулся, и только здесь вспомнил, как наврал деду о том, что перевернул лодку — а сам-то пришёл сухой. И стало так противно от самого себя.
— Я уже сплю, дед, — ответил он.
Утром уехал в город на электричке — с дедом не пришлось прощаться, его вообще не было дома. Ни его, ни котёнка.
«Что, опять домой? — расспрашивал себя Новиков, — Какой уже день, пятый? — из дома, домой, из дома, домой, из дома, домой… Сходил бы ещё куда-нибудь? В сауну там, например? Нет? Противно? Какой ты щепетильный. И ударить опера монтировкой по голове у подъезда противно — и принять его дар тоже не хочешь. Гарика тогда навести, урони его наземь, он всё равно уже спился — не будет у него силы тебе ответить, попрыгаешь на его спине всласть. Потому что если Гарика не победить однажды и вовремя — есть шанс, что он вернётся снова. Тоже тошно? Куда ж тебя отправить, дружок? За туманом ты уже съездил, — приветствую опалённого ночными кострами, романтика, геолога и чудака. Сходи, что ли, теперь в детдом, скажи, что хочешь усыновить ребёнка. А? Не дадут тебе? Правильно, и я б не дал. В армию? Поздно? А чего ж ты, когда было рано, не сходил? Ну, в больницу иди, скажи, что хочешь быть нянькой и ухаживать за лежачими и брошенными. Как ты сказал? Брезгуешь? А собой не брезгуешь? Я бы брезговал на твоём месте. Меня б рвало от самого себя. Сдай кровь хотя бы? Нет? Больно? Ну, в собачий приют иди! Я не знаю, зачем. Иди зачем-нибудь. Полаешь там, повоешь».
— Отцепись от меня! — вдруг крикнул Новиков, влепив правым кулаком по правому колену, а левым — по левому.
Пассажиры сначала посмотрели на него, а потом отвернулись.
Правая рука затекла, и когда Новиков, стыдясь пассажиров, начал потирать лицо, возникло ощущение, что у него только два пальца — мизинец и безымянный.
Дома громыхал, будто он подпрыгивал на столике и бил себя трубкой по чердаку, телефон.
Так он его и не вырвал всё-таки из стены.
Впервые за последнюю неделю Новиков не подумал, что — Ларка, а это была Ларка.
Ларка со своим голосом, то насмешливым, то воркующим, но даже когда воркующим — всегда готовым сорваться в насмешку или раздраженье. Ларка с отличной своей задницей, тёплой и мягкой как белый хлеб, которой она и делилась, как хлебом в несытый год с незадачливым соседом — ну, на, а то подохнешь ещё — хорони потом тебя. Ларка со своими ногтями, на которые она точно смотрела чаще, чем на Новикова, со своими губами, которые, уже в зеркальце, она разглядывала внимательней, чем Новикова, со своими ноздрями, которыми она часто принюхивалась к Новикову, как будто он на ночь спрятал под мышки по селёдке и забыл там. Ларка со своим всем образовалась в трубке и вскрикнула с ужасом и нежностью:
— Ты живой?
— А что такое? — спросил Новиков, — Живой.
— Я тебе звонила, всё утро звоню… Вчера звонила!..
— Да я телефон утопил.
— Как утопил? Где?
— В воде. Что случилось-то?
— Лёшка повесился, — ответила Ларка сразу.
— Как? — спросил Новиков.
Что он ещё мог спросить.
— Погоди, — сказала Ларка, — Я же к тебе еду. Мы тут всполошились все. Мать с отцом тоже домой мчатся.
— Как? — ещё раз повторил Новиков, но Ларка уже отключилась.
Новиков потёр кулаком лицо, и первой мыслью его было, что пальцы на руке появились: те три, которые никак не чувствовались в электричке.
«Подожди, — а Лёха?» — спросил у себя Новиков, изо всех сил стараясь не видеть ничего вокруг, чтоб не подумать о грязном зеркале, об оставленном им же в комнате включенном ночнике, об утопленном бинокле, о Ларке, которая везёт к нему свои ногти, губы, хлеба.
Надо было что-то быстрей подумать о Лёхе — самое главное, самое нужное, самое-самое.
Ведь они так знали друг друга…
«Сколько мы знали друг друга?»
Новиков уселся прямо на пол и стал кусать губу.
Тут, наконец, вспомнилось, совсем без мыслей и слов — а просто полыхнуло где-то в голове, как они с Лёхой слушают новый альбом Брайна Ферри, и пьют чай с малиновым вареньем… как они напились пива до такого состояния, что заснули на детской площадке, а разбудили их дети, пришедшие в садик… как они сидели в очередной бане — и разговаривали так, как с Ларкой Новиков не разговаривал никогда: взахлёб, с точно отмерянными приправами из здорового цинизма, юморка, матерка…
Он почти уже заплакал — чего с ним так и не случилось с того самого дня, — но тут, без звонка ворвалась Ларка, её каблуки, её чулки, полы её плаща, а следом зашли и родительские ноги — материнские дачные кеды, отцовские кроссовки…
Все столпились вокруг Новикова, как будто он вернулся с войны, с полюса, откуда-то из страшного и сурового далека.
— Как же Лёха? — сказал, весь кривясь и почти уже рыдая Новиков, — Лёха — как же он так? Ну?
— Да живой твой Лёха, — сказала мать.
— Живой? — Новикова тряхнуло так, словно с него самого только что сняли расстрельную статью, и отпустили на все стороны, дав денег на проезд.
— Живой-живой, — ответил отец, потому что заметил, как Новиков, ни доверяя женщинам, — ни матери, ни Ларке, — воззрился на него.
— Правда, пап? — спросил Новиков.
Мать сразу же заметила это «пап», у неё довольно дрогнули глаза; да и отец как-то странно сморгнул, и ушёл куда-то поскорей.
— Господи, какое счастье! — завопил Новиков.
Ларка одной рукой гладила своего желанного по руке, а другой, под столом, — по ноге, и мизинец нет-то и сползал с ноги прямо в пах, сразу растревожив Новикова до лёгкого душевного мандража.
— Цыть! — сказал он Ларке шёпотом, весело сыграв глазами.
Мать всё это, конечно, заметила, но сделала вид, что ничего не видит.
Они все сидели на кухне, только отец, опрокинув рюмку, вспомнил о чём-то своём, и вышел на минутку.
— Пап, я нож твой… утопил! — крикнул Новиков, почему-то решив, что отец ищет своё холодное оружие.