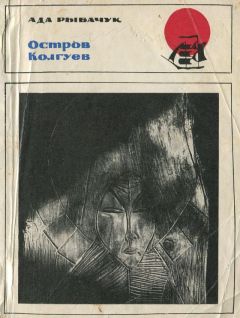Володина упряжка все время отстает.
Черная Машка ленится, крутит головой, сдвигая ошейник, смотрит по сторонам и этим мешает передовому, сбивая ритм его бега.
Топчик, оборачивая к Володе лицо, что-то кричит ему; Володя с силой толкает Машку хореем, но она совсем раскапризничалась, не хочет бежать.
Есть верный способ призвать собаку к повиновению.
Володя останавливает упряжку, быстро завязав повод за копылья саней, выпрягает Машку и, запустив пальцы в длинную шерсть, заиндевевшую на шее за ушами, резко бросает ее назад через голову.
От нескольких сальто в воздухе у Машки кружится голова; Володя идет к ней и, схватив за загривок, волочит к упряжке и запрягает снова.
Сдвинув капюшон, вытирает лоб.
На собственном опыте поняли мы и то, почему, собравшись на охоту, не рекомендуется кормить собак.
Мы идем к Каре, идем, взбираясь на спины сопок.
Вот складкой навис сугроб над ручьем, впадающим в море, вот вмерзшее в песок бревно, и на нем — странно видеть среди снегов — причальное кольцо с продетым в него остатком ржавой цепи; вот ребрами торчит скелет бота, потерпевшего когда-то крушение; маленькая «мигалка» — береговой маяк из тех, что стоят здесь на местах, которые обнажаются во время отливов; просто знакомый камень.
Здесь мы чинили сани; здесь, вырубая из песка, брали бревно на дрова — помнишь, у нас тогда совсем ни полена уже не было? Вот здесь — помнишь? — пропустив старика вперед, я делала рисунок с его уменьшавшейся фигурки… Здесь Тобси сбросил мешок муки: «Совсем едва идут собаки, потом сам приду заберу…» А вот здесь — как это было давно — старик сказал нам, что вон-вон уже виден огонек, — заметил, наверное, что мы тоже едва идем… Помнишь, Тобси потом говорил, что они все лампы, что у них были, и фонарь из сеней зажгли и поставили на окно с той стороны, откуда мы должны были прийти, чтобы огонь пораньше увидели…
В этой ничем не нарушаемой тишине знакомым становится каждый бугор снега, каждая тень от нагроможденных и стоящих отдельно льдин, каждое озеро, зеленым растрескавшимся куполом вспученное над снегами.
А поселок?
Какая это обетованная земля, какой это мир, когда вернешься в поселок из тундры!
Раньше всего встретишь Хальмюр — высокое место над морем, такое торжественное и печальное, каким только и может быть последнее людское прибежище… Но и кладбище здесь говорит о жизни поселка — упрямой жизни людей на этом трудном берегу.
За Хальмюром — ручей. За ним — поселок.
Первые дома совсем замело снегом; вон с сугроба на крышу прыгает серая собака, похожая на шакала, и пытается лапой открыть дверь, ведущую на чердак.
Вон в сторону от поселка — это же его рыжие собаки — едет Петя Молькин. Рюжи смотреть едет, наверное…
За вешалами начинается первая улица — сети сушатся и на домах. На запачканном кровью бревне бабушка Нанук рубит кусок мерзлого нерпичьего мяса. Кружком, пристально следя глазами за ее движениями, сидят восемь ее собак. Идущая мне навстречу Парэй останавливается, коричневым пальцем со сломанным желтым ногтем трогает пятно у меня на щеке и говорит без улыбки:
— Лицо лучше сохранять надо…
Бежит навстречу рыжий ублюдок Тоби, у которого шкура на голове не по размеру скроена, прыгает, толкает лапищами — вот черт! — а потом стоит и смотрит, поворачивая голову из стороны в сторону, и уши болтаются… Неподвижно сидит у своего чума Алика, о чем-то думает; семья Алики — с Таймыра, у них у всех малицы чудно так сшиты: от головы к плечам совсем прямая линия натянутой шкуры.
Около клуба обрывок афиши шуршит по снегу; отворачиваю угол — «Девушки с площади Испании». Интересный фильм, наверное…
Смеется навстречу Илк. В руке у него игрушка — обшитая красным кольцом сукна лохматая куропачья лапка. Белая.
Подхватываю его на руки.
— Зачем чужой сын себе несешь?
Берег. Новые желтенькие лодки — скоро и лед сойдет: некоторые уже и смолить начали.
А вот в проталинках от костров в мерзлоту вбиты новые сваи — смотри, целая новая улица. Тундровая.
С аэродрома взлетел самолет; не говорим, но думаем об одном — откуда? С Диксона, с Северного полюса или… или из Москвы? Может, почта есть…
Потянулись все в одну сторону дымы: час утреннего чая.
Вот и последний дом — дом, в котором мы живем на берегу этого моря, мой дом в этом поселке.
Снова пришли пароходы.
— Вот, пароходы пришли, — повторяя новость, приветствуют друг друга люди.
На разгрузке стремятся работать даже подростки: всем хочется попасть на корабль, вблизи рассмотреть и потрогать его.
В иллюминаторах, на мачтах, на работающих лебедках круглосуточно горят электрические, ярче зари огни; ветер доносит обрывки музыки, голоса радио, голоса другой жизни; когда туман скрывает пароходы, все равно слышны и скрежет лебедок, и стук моторов, и эти голоса, напоминающие — пришли пароходы!
Срочно строят причалы, на причалы срочно проводят электричество, берег становится жилым.
Разгружаясь, становясь легче, пароходы сидят менее глубоко, подходят все ближе к берегу — вот они, большие, черные, привязанные якорями, торопят разгрузку, дают протяжные требовательные гудки.
— Всем на разгрузку.
Надо поднять повыше сложенные на песке лес, крыши, двери, окна, ящики — идет шторм.
Работают все — пароходы пришли!
Новые желтые доски пола запачканы глиной, завалены осколками битого красного и самодельного серого кирпича, стружками, щепками; замерзают лужи расплесканной воды; бродят или, свернувшись, спрятав в шерсть хвоста нос и согреваясь своим дыханием, дремлют собаки.
Тут же, прямо к полу, прибита красная семиметровая полоса сатина.
Выделяясь среди всего этого строительного мусора четкими ритмом, белеют буквы: «Да здравству…» Против этого места стоит банка с вмерзшими в белила кистями.
На дальнем конце этой семиметровой полосы топчется по кругу Юган — хочет устроиться подремать. Негромкий свистящий звук, окрик Тагана, и Юган, взглянув в сторону хозяина, демонстративно ложится на куче мерзлой глины.
Торжественный вечер завтра — первый вечер в новом клубе. Сегодня кончают работу плотники, спешно кладутся печи и пишутся лозунги.
Тагана возглавляет составленную на ходу бригаду столяров. В одном из углов уже плотно столпились, будто боясь запачкаться в этом мусоре, белоногие лавки, а к вечеру нужно их еще десятка два сделать.
У Тагана «молодежная бригада», подростки. Они строгают толстые доски, топорами обтесывают поленья для ножек; сам же Таган занят «ответственной» работой: самодельным «национальным» сверлом — из стального наконечника, двух палочек и двух нерпичьих шнурков, которые нужно дергать по очереди, — он просверливает отверстия для ножек, ножом пригоняет их.
Печорские рыбаки кладут печи; одна уже оштукатурена и даже затоплена — от нее идет и дым, и пар от просыхающей глины, и веселое тепло.
Так как рыбаки уже начали было встречать праздник, их просто заперли на ночь в помещении клуба — иначе печи не были бы готовы, им оставили немного еды и чайник, и вот утро — они кончают уже вторую печь.
Володя, увлеченный деловой, предпраздничной, всегда захватывающей и куда более интересной, чем сам праздник, суетой, возвращается от затопленной печи с кружкой закипевшей воды — развести замерзшие белила, — и дальше ложатся четкие белые буквы: «…годовщина Октября».
Длинные прямые линии золотистых, светлых непросохших досок пола; перспектива золотистых брусьев, разделенных темными полосами мха-конопатки, подчеркнута и усилена красными длинными полотнищами лозунгов; густо-красное пятно сцены; почти тепло. Пахнет новыми печками, новыми стенами, чистыми, еще сырыми полами.
Даже собак выгнали.
Гости начинают съезжаться.
Оленьи и собачьи упряжки подъезжают прямо к новому клубу. Поселковые жители топчутся на крыльце задолго до назначенного часа — ведь можно будет обменяться новостями; тундровые люди — они и через Воркуту ехали и по восточному берегу. Поселковые люди на крыльце сбивают снег с подошв, заходят в сени, выходят.
— Ань торова!
— Ань торова!
И по-русски:
— Как зывес?
Новости могут рассказывать, новости могут и пропеть. А можно и молча постоять — сколько людей сразу… Разве не самая новая новость?
Идут в «зал».
Каждый вошедший задерживается у входа, оглядывает помещение: потолок, стены, трогает ногтем печки. Прочитывает вслух лозунги. Трогает лавки.
Если ты хорошо воспитан и внимательно слушаешь приятного собеседника, если ты удивлен, если ты обрадован, если ты доволен, если ты сгораешь от нетерпения — не надо тратить лишних слов. Все можно выразить одним только:
— Но-о-у!
— Но-о-у! — сколько раз слышалось у входа.