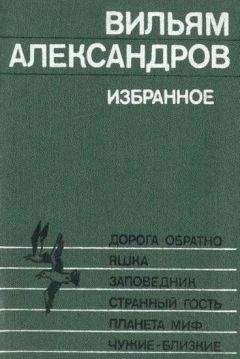А девчонка одна стихи прочитала Блока, прочитала, правда, хорошо, и говорит: актрисой хочу стать. Ну, думаю, плохо же ты знаешь, что такое актриса, думаешь — только цветы, аплодисменты, стихи… А это труд собачин, ни дня, ни ночи, и сплошная война — с режиссером, с помрежем, с завпостом, с соперницами… Знала бы, что я знаю, ни в жисть не мечтала об этом! А потом та самая Аленка, что давно лежит и неизвестно когда встанет, свои стихи читала. Они все бешено хлопали, а когда Николай Петрович газету им показал, так они чуть весь зал не разнесли, подняли ее кровать на помост, заставили еще читать, цветов накидали…
«««Они еще долго кричали, хлопали, песни пели и рассказывали про свои мечты, а я Сашу все высматривал, не нашел нигде, выбрался незаметно, спустился по лестнице — ив парк.
Никого там в тот час не было, ни одной души, только деревья огромные стоят, чуть покачивают вершинами, а над ними луна сквозь облака светит, желтоватым светом все залито, будто воском облито, и вот так замерло…
И так чего-то мне грустно стало, сам не знаю, никогда такого не было, иду по парку, гляжу на деревья, на небо, на облака, на длинные тени от стволов, и чего-то странное со мной происходит, будто в груди ворочается что-то, дышать не дает…
А потом мне показалось, что кто-то плачет. Сначала не поверил, пошел дальше, потом слышу — точно, всхлипывает кто-то. Присмотрелся и вдруг увидел: стоит Саша возле дерева, ствол рукой обхватила, всем телом прижалась и рыдает безутешно.
«Ну, — думаю, — дела!» Подошел тихо, тронул ее за плечо.
— Ты чего? — говорю.
Она испугалась сначала, вскинулась, а как увидела меня, еще сильней затряслась.
— Обидел тебя кто?
Мотает головой, молчит, всхлипывает.
— Да что случилось, объясни толком? Опять про дом вспомнила?
— Сказа-а-али, готовься, чрез день юло-о-жат… — и опять затряслась вся.
А у меня внутри вдруг холодно стало. Но я еще не верил.
На обследование положат?
— Не-ет… Совсе-е-м… В тре-е-етий…
Вот оно! Знал же я, что так может быть, да только отгонял от себя эти мысли, думал, нет, не случится с ней такого.
— Сколько лежать?
— Го-о-од…
— Ну что ж, — сказал я, — надо так надо. Зато выздоровеешь. Ты же хочешь выздороветь?
— Хо-о-очу…
Ну, ничего, полежишь, книги почитаешь, ума наберешься, они тут, видишь, все какие умные! Я бы и сам с удовольствием…
— Да-а-а, это ты говори-ишь то-олько…
Конечно, говорю. Я подумал, что скорей бы умер, чем лежать целый год на спине. А сам сказал:
— Да нет, я серьезно… Послушай, вот хочешь, я каждый день буду приходить к тебе, а когда уеду — письма писать. И ты мне писать будешь, ладно?
Она опять заплакала.
Ну, брось, хватит. Ты же знала, зачем приехала…
— Зна-а-ла, а все-таки думала…
И тут я услышал голоса. Их голоса — я сразу узнал. Они втроем шли через парк, домой, как видно, шли и разговаривали — громко, весело так…
Я прижался к дереву, чтобы скрыться в тени, и Сашу притянул к себе, чтобы она тоже в тени была.
— Ты что? — испугалась она.
— Помолчи, пусть пройдут.
Они прошли совсем рядом. В середине шла Тамара Михайловна, слева от нее ОН, а по другую сторону — Таня, держали ее под руки.
— Это он спросил, — говорил Николай Петрович, — я узнал его голос.
— Нет, папа, не он, я видела.
— А, по-моему, он, Танечка, ты ошибаешься.
— Да нет, папа, это Вадик Решевский спрашивал, я видела, но на вечере он был, даже помог мне Алешку довезти.
— Значит, он был, пришел все-таки?
Пришел, пришел, Коля, — вмешалась Тамара, — я его тоже видела, он у самой стены стоял. — И мне тоже кажется, что это он спросил.
— А я…
— Не спорь, Татьяна! — прервала она Таню. — Обязательно тебе надо перечить.
— Ну, пожалуйста, если вам так хочется, — обиженно сказала Таня.
Они уже удалялись. Тамара Михайловна еще что-то сказала, я услышал только, как в ответ они весело засмеялись, и он сказал: «А главное — вечер удался…»
Их голоса уже утихли, а мы все еще стояли вот так, прижавшись друг к другу. Я не отпускал ее, и она замерла, не шевелилась.
— Как тихо… — шепотом сказала она.
— Да… Я даже слышу, как стучит твое сердце.
И я слышу, — прошептала она. А потом заговорила чуть громче, с глубокой тоской: — Я вот думаю, отчего это одни люди такие счастливые, все у них есть — и здоровье, и отец с матерью рядом, и все, все у них хорошо…
Я погладил ее мягкие, тонкие волосы, и она вдруг всхлипнула.
— Те-тебе жаль меня?
— Ты хорошая, — сказал я сам не знаю почему, — ты… очень хорошая!
Они ждали Валерия, не дождались и решили сесть ужинать. И как-то само собой получилось, что собрались они на кухне, как это раньше бывало по вечерам.
Кухня была маленькая, они с трудом умещались в ней втроем, а если приходил кто-то четвёртый, белый пластиковый столик отодвигали от стены, чтобы сесть вокруг него. Места свободного почти не оставалось, и тем не менее они любили сидеть вот так, в тесноте, по вечерам, примостившись на маленьких кухонных табуретках, почти прижавшись друг к другу.
Тамара Михайловна быстро поджарила картошку, залила ее яйцами, Таня нарезала хлеб — побольше черного, немного белого, выставила из холодильника масло, сыр, приготовила вилки. Они все тянули время, не садились, думали вот-вот подойдет Валерий, но его не было. Потом в дверь постучали. Николай Петрович бросился открывать, но вместо Валерия он увидел на пороге Арсения, своего «старого друга, заместителя главврача санатория. Он жил на первом этаже, под ними, иногда заходил.
Полноватый, с крупной лысеющей головой и пшеничного цвета усами, Арсений Федорович производил впечатление сурового, непреклонного человека, но глаза выдавали доброту, в них, в самой их глубине, постоянно светилось лукавство.
Вот и теперь он стоял в дверях, глядел строго, а в глазах его прыгали насмешливые искры.
Судя по всему, у Светланова был несколько растерянный вид, когда вместо Валерия он увидел своего коллегу. Арсений постоял молча, наконец сказал басом:
— Ну что, заходить или как?
Заходи, Арсений, заходи. Мой Валерка запропастился куда нервничаю немного. Ты прости. Здравствуй!
Здравствуй! С этого и начинал бы. А нервничать тебе не с чего, парень молодой, ему погулять надо, в кино сходить, на танцы. Привык ты к нашим лежачим мудрецам. А он ведь здоров, слана богу?
Здоров-то здоров. — Николай Петрович погрустнел вдруг, нахмурился, — да только неладно с ним что-то. Вот и Люда пишет: последнее время совсем чужой стал, по вечерам в подъездах торчит, учиться стал хуже, в школу ее вызывали, а она ничего сделать с ним не может…
Ясно. Оттого, значит, и прислала его сейчас? А не то, не видать бы тебе сына и по сей день? — Арсений покачал головой. — Вон ведь как выходит, пока, значит, гром не грянет…
— Чего уж там! — махнул рукой Николай Петрович. — Жаль мне ее. Одна ведь она, одна. Друга настоящего-то нет.
— На то, знаешь, хорошая поговорка есть: что посеешь…
Поговорки на все случаи жизни есть, — с горечью прервал его Светланов. — На все! Ну, ладно, давай проходи, мы тут по-свойски устроились, сейчас стол отодвинем…
Они вдвоем привычно отодвинули стол от стены.
— Вот тебе твой стул, Арсений. — Тамара Михайловна специально для гостя принесла стул, знала — на табурете он не умещается. — Садись на свое место, с той стороны.
Арсений протиснулся между холодильником и столом, поднял стул, перенес его в пространство, образовавшееся у стены, установил и с трудом протиснул ноги под стол.
Ну и народ! Иметь такую квартиру, две комнаты, мансарду, коридор и копошиться тут на крошечном пятачке… Медом, что ли, у вас тут намазано?
— Медом, медом, дядя Арсений, — весело заявила Таня, внося стопку мелких тарелок и расставляя их на столе.
— А… Это ты, пигалица…
— Я, дядя Арсений, я. Собственной персоной.
— А я думал, с братишкой время проводишь. Как вы с ним, нашли общин язык?
— Ну, как вам сказать… Ищем только.
— А, понятно… Значит, как говорят дипломаты, стороны ведут поиски взаимоприемлемых решений. Ну что ж, это хорошо, хорошо. А какие, если не секрет, основные разногласия?
— Ой, дядя Арсений, я не умею так, на вашем дипломатическом языке. — Таня оглянулась, словно ища поддержки, но Николай Петрович сидел отрешенный, а Тамара Михайловна была занята, накладывала еду в тарелки.
— Л ты попроще, по-житейски. На что взгляды разошлись? На любовь?
— На жизнь, — вздохнула Таня.
— О, это серьезно. Это…
— Арсений, дискуссию продолжите потом, — Тамара Михайловна сняла фартук, — еда стынет. Давайте!
— Куда же он все-таки подевался? — Николай Петрович глянул наверх, где был виден открытый вход на «голубятню». — Может быть, он там, Танюша? Пришел раньше нас и уснул?