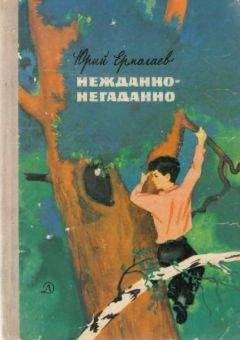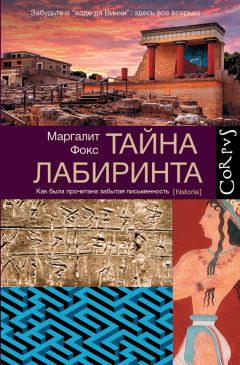— Не понимаю, — сердито говорю я ему, — ты умеешь быть дьявольски умным, но у тебя нет самого примитивного чувства ориентировки, каким обладает любой червяк. Что дурного в том, что мы заслужим какую-то симпатию к себе? Если хочешь знать, наша судьба уже сейчас во многом зависит от русских, а в ближайшем будущем станет зависеть еще больше…
— Конечно, — с издевкой отвечает Дешё, — в лице нас семерых эту симпатию обретет вся нация. Да? Вернее, только шестерых, потому что Геза сразу же упадет в обморок, если понадобится взяться за оружие.
Геза качает головой.
— Буря в стакане воды. Не фиглярничайте и оставьте меня в покос… Разве мы собрались сюда для того, чтобы, не успев выбраться из одной ямы, свалиться в другую? Благодарю покорно. Вот достану вам штатскую одежду, на это я еще способен, но на большее..
— Нет, нет! — взволнованно воскликнул Фешюш-Яро. — Не о том речь. Победитель и побежденный — вот и все ваши аргументы… Послушайте меня! Национальная независимость, право на самоопределение… не качай головой, Кальман, вы уже больше чем достаточно пребывали в роли скептиков; после войны все изменится, решительно все! Придем мы, рабочие, и вы тоже, чтобы занять место этих удирающих за границу высокопоставленных банкротов в ментиках, при саблях на боку. Вот почему и вам не мешало бы…
— Пожалуйста, — перебивает его Дешё. — Вот съедите лечо и можете идти занимать место.
Водворяется тишина. Все уткнулись в тарелки. Без Дешё здесь никто и шагу не сделает. Я тоже, чего уж греха таить, но сейчас бессмысленно продолжать настаивать — раз уж он заупрямился, знаю, что не уступит. Первым нарушает тишину Шорки.
— Идите вы к черту! — ворчит он. — У меня двое детей, если я погибну, кто их будет кормить?
Фешюш-Яро подпирает подбородок кулаком.
— У меня тоже двое. Даже домой не мог зайти взглянуть, как они там.
— А я? — глубоко запавшие глаза Шорки затуманиваются. — За два года всего один раз отпустили с фронта домой на побывку. Какие бы потери ни несла рота, она должна оставаться боеспособной, брехали мне каждый раз. Младший еще и говорить не начал, всего тринадцать месяцев и было-то ему.
Мы едим лечо. Неизвестно почему, я начинаю перебирать в памяти все, что читал из русских авторов. «Война и мир», «Воскресение», «Апиа Каренина», погоди-ка, кое-что читал и Гоголя, да, да, «Тараса Бульбу» и «Шинель»… Что же он написал еще? Гоголь, Гоголь… ну, конечно, «Мертвые души»! «Записки охотника» — это уже Тургенев, он мне очень нравится, прекрасно пишет, непревзойденный стилист. Но это не все, что-то еще вертится в голове… Читал какой-то роман его, но никак не вспомню название. Ну ладно, пойдем дальше: Пушкин — «Медный всадник», «Евгений Онегин»; погиб па дуэли, не помню, в каком возрасте. Достоевский — обличитель удушливого, падшего мира. И Мережковский — очень нравился его «Юлиан Отступник»; и еще я любил Бунина, особенно запомнилась его новелла, где рассказывается о воре, да, да, о воре-неудачнике… Неужели это все? Нет, знаю также Горького, читал его «Мать», видел «Мещан». Обязательно надо было бы прочитать «Тихий Дон», говорят, это уже окно в сегодняшний русский мир, я даже заходил к издателю Черепфалви, по книга разошлась, а йогом уже так и не довелось. Но чего это стоит? Просто реестр, второпях составленный моими простертыми вперед, подхлестываемыми испугом рефлексами. Напрасны все с тирании, нам придется иметь дело с солдатами, а не со знатоками литературы, чего доброго, еще только хуже разозлю их упоминанием о прочитанном мною. Тарба кладет на стол вилку и бледнеет. Он издает визгливый стон — конечно, объелся, дважды накладывал себе в тарелку жирное лечо. Хотя нет, он испуганно показывает глазами на окно: мол, взгляните туда.
— Что там? — спрашивает Дешё.
Он сидит спиной к окну с куском хлеба, насаженным на вилку, выбирает из тарелки жидкое лечо, но мы уже видим, как со стороны дворца в гору поднимается патруль. Начальник патруля одет в черную форму, это нилашист, на груди у него висит автомат, два его спутника — полевые жандармы.
Галлаи вскакивает.
— Другой выход из винокурни есть?
— Нет, — отвечает Геза, проводя языком по пересохшим губам. — Только окно… но отец заделал его железной решеткой.
— Каким угодно путем, но отсюда надо выбираться!
Дешё встает. Тщательно вытирает носовым платком губы, словно это самое главное, без чего нельзя обойтись сейчас.
— Самое худшее, — говорит он тихо, — бежать в панике. К дороге нам не пройти, возьмут голыми руками. Но они, может быть, не сюда идут.
Нет сюда. Начальник патруля сворачивает с дороги и направляется к винограднику Барталов. У крайнего ореха останавливается, прислушивается, затем подает знак, оба жандарма следуют за ним, взяв винтовки наперевес. Бог мой, неужто все закончится тем, что нас схватят в этой злосчастной винокурне, как в западне? Кто же мог выдать нас? Ведь сами они не могли прийти прямо сюда… это невозможно! Так или иначе, но они здесь, и нет никакого выхода, а я, дурак, ломаю голову, чтобы вспомнить о каком-то Тарасе Бульбе, Анне Карениной. Лучше бы глядел в оба, но я сглупил, надо же было забиться в эту дыру, какое безумие! И из пяти военных ни один не догадался установить наблюдение. У всех полные безысходности и отчаяния взгляды, побелевшие от страха губы чуть дрожат. Фешюш-Яро хватает топор, прислоненный к двери. Вот неразумный, ему изрешетят брюхо прежде, чем он успеет его поднять. Галлаи выскакивает в соседнюю комнату, приносит оттуда автомат, отводит назад затвор. Как бы стрелять не вздумал, черт его возьми, Чересиеш кишмя кишит немцами, все сбегутся сюда.
— Положи на место, — приказывает Дешё.
Галлаи, глянув на него, подчинился. Он кладет автомат, сразу как-то обмякнув, его мясистое лицо становится бледным, с резко выступившими лиловатымн прожилками. В свои двадцать пять лет он так разъелся, что, если бы не война, его, пожалуй, мог бы хватить удар.
— Есть кто-нибудь в доме?
В окно сквозь тюлевую занавеску виден нилашист. Он стоит, широко расставив ноги, шагах в десяти от двери.
— Не откликайтесь, — шепчет Геза, — может, они уйдут.
Мы знаем, что не уйдут. По всему видно: шли сюда в полной уверенности, что обнаружат нас. Ничего нет абсурднее и более раздражающего, чем ослепленность попавшего в беду человека, его беспредельно глупое ожидание сверхъестественного чуда. Дешё подходит к двери и распахивает ее.
— Пожалуйста, прошу вас, — приглашает он, словно это пришел почтальон.
— Выходи по одному! Руки вверх! И не зздумайте дурить, церемониться не станем.
Ну, конечно Они все знали заранее. Дешё стоит на прежнем месте и, даже не повысив голоса, спрашивает:
— Почему не отдаете честь старшему по званию?
— Послушайте, бросьте валить дурака, мне некогда.
— Не разглядели мое воинское звание?
Нилашист махнул было рукой, но поскольку оба жандарма, щелкнув каблуками, отдают честь, он тоже нехотя поднимает руку и сразу ее опускает.
— Вот теперь совсем другое дело.
Еще немного, и я не выдержу. Сейчас закричу. Или побегу, пусть стреляют вдогонку, мне безразлично, лишь бы не стоять здесь, это невыносимо — разыгрывать фарс перед трагическим концом. «Дезертиров приказываю расстреливать на месте…» Идя сюда, я видел этот приказ, подписанный генерал-полковником Берегффи, с трехцветной каймой наверху и бледно-зелеными скрещенными стрелами посередине. Он висел на стене дома Вибалди, возле статуи святого Яноша. Пытаюсь взять себя в руки, напрягая последние силы, нельзя давать волю вконец развинтившимся нервам, нет, нет, ни в коем случае…
— Выходите, господин старший лейтенант! В штабе вам уже никто не отдаст честь, будьте уверены!
— Сию минуту, друг. Захвачу шинель и документы.
— Не вздумайте бежать! Открою огонь без предупреждения.
Дешё возвращается. Галлаи срывающимся голосом упрашивает его:
— Давайте прорываться. Если не удастся… все равно терять нечего…
Дешё молчит. Не спеша идет обратно, я даже не заметил, как он взял автомат, только услышал резкую, короткую очередь. Трое пришельцев валятся на землю, как подкошенные.
Дешё стоит некоторое время в дверях, затем входит в комнату, кладет на стол автомат, отодвинув в сторону тарелки. Левой рукой он делает жест, давая понять, что иного выхода не было.
— Что же теперь? — заикаясь, спрашивает Галлаи, но в голосе его уже звучат заискивающие нотки. Геза хватает свою сумку.
— Пойду посмотрю, может, только ранены?
— Бесполезно, — отвечает Дешё. — Все мертвы.
Мы выходим за дверь, осматриваемся. Гр охочут орудия, в Старом Городе рвутся мины, среди редких зарослей Череспеша в сторону Битты ползут три немецких танка. Неуемный страх сменяется во мне чувством стыда и досады на самого себя: как это я позволил себе разволноваться, дрожать, словно пугливое животное. Вот бы узнать, кто нас выдал, и проучить предателя. Как легко убить сразу трех человек! До ужаса просто. Главное — действовать быстрее, безошибочнее и решительнее противной стороны, но для этого, прежде чем выстрелить, необходимо мобилизовать все умственные и нервные силы, вслед за чем из мозгового центра незамедлительно последует приказ глазам и рукам. Не так-то, стало быть, все просто! Почему стрелял именно Дешё, а не кто-нибудь другой? Еще вчера вечером он сказал, что с сегодняшнего утра никому не будет приказывать, и все же доказал — тем, что не потерял голову, — что он старший над нами. Он закуривает. Я смотрю на его руки, надеясь заметить дрожь в них, хотя бы как следствие потрясения, вызванного его двухминутной игрой с жизнью и смертью, а затем и самим убийством, хотя и вполне правомерным, но все-таки убийством людей. Но руки у него такие же, как всегда, — тонкие, загорелые, спокойные.