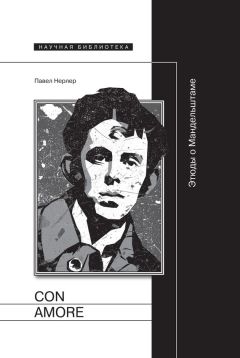Чего только не было в чемоданчике у мастера! Молоточки, камертоны, рычаги, школьные ластики… Всё это было пущено в ход. Ерминингельд Аверьяныч быстро пробежался пальцами по клавишам, чтобы определить, какая нота настроена не в лад, а затем принялся подтягивать струны, внимательно прислушиваясь и раздражённо скалясь, словно от боли. Пианино под руками настройщика пело по–кошачьи заунывно и гнусаво…
Наконец мастер тяжело откинулся на спинку стула и, сурово стиснув зубы, нахмурившись и выдвинув нижнюю челюсть, замер минут на пять. А потом… Потом он взмахнул по–птичьи руками, чуть слышно вздохнул… нет, не вздохнул, а всхлипнул, что ли?.. и заиграл романс «Я встретил Вас». Никогда ещё в стенах этого дома музыка не звучала так возвышенно! Лёнька буквально задохнулся от восторга и ужаса. Это было поистине прекрасно! Настройщик раскачивался в такт мелодии и вдохновенно встряхивал своими седыми кудрями, спускающимися на уши и на лоб; мелодии, одна красивее другой, легко меняли друг друга — казалось, музыка теперь будет звучать здесь всегда…
Наигравшись вдоволь, гость от души похвалил инструмент и засобирался домой. Мама вручила мастеру причитавшийся ему гонорар и пригласила к столу откушать чайку. Ерминингельд Аверьяныч охотно согласился. Он снова высморкался в свой солдатский носовой платок, а затем, усевшись за стол, принялся прихлёбывать из блюдечка, изредка звучно откусывая от рафинадного кубика маленькие аккуратные кусочки и сосредоточенно катая их во рту, как будто прислушиваясь к своим ощущениям. Настройщик выпил полчайника чаю, рассказал о своём великовозрастном племяннике, который, как выразился Ерминингельд Аверьяныч, «должен был стать большим пианистом, но, к сожалению, увлёкся джазом», а потом, неторопливо одевшись и сунув под мышку зонтик, откланялся.
Балалайку положили на шкаф и больше о ней не вспоминали.
Учителя музыки звали Виталием Сергеевичем Забельским. Это был невысокий крепыш совсем не романтической внешности, которая, казалось бы, не очень–то соответствовала человеку такой утончённой профессии: чуть полноватый, немного неуклюжий, стриженный коротко, по–боксёрски, с маленькими добрыми глазками, по–бычьи толстой шеей и пухлыми ладошками с короткими подвижными пальчиками. Немного позже родители узнали, что он не пианист, а трубач, но уже тогда было видно, что Виталий Сергеевич — человек аккуратный, деликатный и прекрасно знает фортепиано. Приходил он всегда вовремя, минута в минуту, тихо стучался в дверь (хотя был звонок), раздевался в прихожей, там же долго рассматривал себя в зеркале, поправляя какие–то одному ему известные детали причёски, со вздохом усаживался на табурет возле пианино и начинал урок.
Своего ученика Забельский неизменно называл Лёнечкой, никогда не повышал на мальчишку голоса, искренне радовался его скромным успехам, а если Лёнька по какой–нибудь причине не справлялся с домашним заданием, Виталий Сергеевич забавно огорчался, прятал глаза от Лёнькиных родителей и делался печальным. Однажды он даже поставил Лёньке двойку (надо сказать, что ученик тогда вообще проигнорировал музыкальные занятия и не подходил к пианино дней пять), о своей оценке вслух на сказал и ушёл, сгорбившись и втянув голову в плечи. Увидев кривенькую застенчивую «пару» в своём дневнике, Лёнька потерял дар речи. Он подошёл с дневником поближе к свету и долго рассматривал отметку, не веря собственным глазам. Ах, каким коварным и вероломным показался ему учитель Забельский! Кто бы мог ожидать от него такой невероятной подлости! Ещё никогда Лёнька не получал двоек. «Ну вот, доигрался, — воскликнула мама, догадавшись, в чём дело. — Лентяй ты, Лёнька, каких мало!» И сердито ушла на кухню… Но это так, случайный эпизод, чаще же Виталий Сергеевич Лёньку хвалил и подбадривал. «Удачно, удачно…» — бормотал бывало Забельский, когда ученик попадал на ноту нужным пальцем или точно передавал требуемый оттенок музыкального фрагмента.
Когда начинался урок, в доме прекращалось всякое движение, мама пряталась в другой комнате или на кухне, отец усаживался на диван и делал вид, что читает журнал «Наука и жизнь». Забельский, спросив разрешение у мамы, снимал свой пиджак, извлекал из футляра для очков коротенький огрызок карандаша, и его рука с этим огрызком хищно зависала над нотной страницей. Любая поправка или неточность немедленно фиксировалась учителем на бумаге: Забельский дописывал в нотном учебнике нумерацию пальцев, добавлял недостающие, по его мнению, оттенки, расставлял в тексте диезы и бемоли, о которых Лёнька частенько забывал, если эти значки были обозначены только в скрипичном ключе, и быстрым решительным овалом обводил наиболее сложные фрагменты пьесы, на которые Ковалёву надлежало обратить особое внимание. Иногда Виталий Сергеевич показывал Лёньке, как надо играть то или иное место, и при этом его рука, казалось, совсем не двигалась — только пальчики, короткие и пухлые, лениво шевелились над клавишами, всегда оказываясь в нужном месте в нужное время… Ровно через сорок пять минут и не минутой позже учитель заканчивал урок, записывал задание в дневник и направлялся к выходу.
В прихожей он каждый раз просил у мамы стакан воды. Забельский почему–то всегда хотел пить. Прежде чем сделать первый глоток, он долго чего–то дожидался, держа стакан на весу и оттопырив мизинец. Потом, наконец, он признался, что ждёт, пока осядет хлорка. Мама спорила с Забельским, говорила, что никакой хлорки в воде нет — так, как будто это от неё зависело, есть в воде хлорка или отсутствует. Но Виталий Сергеевич всё равно упрямо выжидал несколько минут, прежде чем начать пить. А когда уходил, родители добродушно посмеивались над ним, вспоминая его причуды.
После каждого восьмого урока Забельский чертил в дневнике две жирные линии, свидетельствующие о том, что пора внести плату за прошедший месяц, но никогда об этом не объявлял вслух, надеясь, очевидно, что Ковалёвы и сами помнят это. Отец вручал учителю одиннадцать рублей, и Виталий Сергеевич смущённо прятал деньги в боковой карман пиджака. Папа поначалу тоже стеснялся почему–то этих минут, становился излишне весёлым или торжественным, но потом, кажется, привык. Однажды после ухода учителя Ковалёвы обнаружили в дневнике две жирные линии, которыми Забельский намекнул им, что пора оплатить уроки, и, сделав необходимые подсчёты, с ужасом поняли, что очередные восемь уроков позади. Подумать только: учебный месяц закончился, а Забельский ушёл ни с чем! Отец долго сокрушался по этому поводу, дня четыре места себе не находил. Деньги он положил на самом видном месте, чтобы потом не дай бог не забыть, и с нетерпением ждал Виталия Сергеевича, чтобы извиниться. «Ну, будет вам, — смутился Забельский, когда отец, вручив ему, наконец, деньги, покаялся в собственной рассеянности. — Надо ли расстраиваться… из–за такой, ей–богу, ерунды?»
Довольно скоро Лёнька уже играл несложные, но очень симпатичные пьески из сборника для начинающих. Мама усаживалась на диван, отец пристраивался поближе к сыну, с интересом листал эту нотную тетрадку и, обнаружив в ней что–нибудь особенно любимое и дорогое, просил Лёньку немедленно сыграть — необязательно точно, хоть приблизительно.
— Ага, вот: ария Надира! Не сможешь, конечно…
— Я не смогу?! — петушился Лёнька и, словно на амбразуру дота, наваливался на клавиатуру.
Сын играл, забывая о знаках альтерации и путая ритм, а отец напевал, сначала тихо, неуверенно, а потом всё больше воодушевляясь. Своим пением он подсказывал Лёньке, как нужно правильно играть, и маленький музыкант очень быстро исправлял свои ошибки.
— А вот это — романс Антониды! — сумеешь? — спрашивал папа, перевернув страницу.
И, не дожидаясь ответа, тихонько пел тоненьким голосом, явно подражая какой–то оперной певице: «Не о том скорблю, подруженьки, и грущу я не о том, что мне жалко доли девичьей…» А Лёнька устремлялся вдогонку за ним, пытаясь поскорее нащупать нужные клавиши и попасть в такт этому пению. Отец, кажется, знал все арии на свете: и «Ты взойдёшь, моя заря, над миром све–е–ет прольёшь…», и «Сердце волнует жарка–а–ая кровь…», и «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить…». Лёньке это была хорошая школа. Он быстро научился играть «с листа», схватывал незнакомый нотный текст на лету, в его пальцах появились беглость и ловкость. Через год Лёнька уже ощущал себя умелым пианистом. Он смело брался и за популярные эстрадные песни, и за сонаты Бетховена, и за прелюдии Баха. Ну, а то, что в его исполнении через три ноты на четвёртую случались ошибки, так это — кто понимает? А если и поймёт, то потерпит. Сегодня не получилось — завтра получится. Не беда.
Осенью в квартире (на пятом этаже!) появились мыши. По ночам они шуршали на кухне за газовой плитой и возились под ванной, где–то за банками, наполовину наполненными краской и олифой. Лёнька боялся мышей панически. Очевидно, это передалось ему от мамы, которая вообще испытывала безотчётный ужас перед всякого рода живностью: ежами, черепахами, ужами…