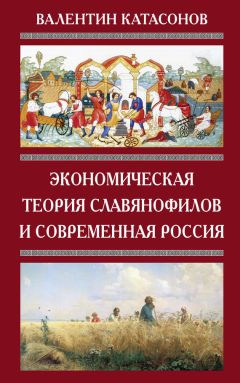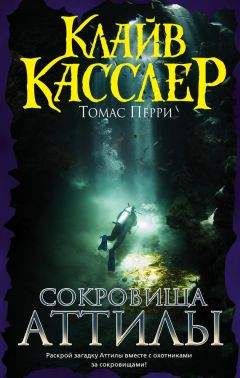Прочитал письмо новый кошевой атаман, приказал кликать старшин. Им он огласил письмо. Запечалились полковники да есаулы. Помянули молчанием почившего кошевого, а затем сказали:
— Славно пожил покойный, добрый был казак.
— Добрый! От вражеской сабли не прятался, от пули не бегал!
Ударили литавры, собрались казаки на круг.
Вышел Головатый и всем зачитал письмо. Скинули казаки папахи, поникли головами. Вспомнили кошевого, помянули товарищей, лёгших на чужбине, тут, на глухом берегу, и, выкрикнув «ура» новому кошевому, разошлись по острову.
А вскорости не стало и Головатого. Поехал он к Зубову просить, чтоб нашли казакам другое, подходящее для лагеря место, а тот и слушать не стал. Мрачный, туча тучей вернулся новый кошевой на остров. Тут и болезнь подкралась к нему. Сначала появилась одышка, отказали ноги. А в январе 1797 года узнали казаки о смерти Антона Головатого.
Вековой наш богатырь. Многоводная, раздольная, Разлилась ты вдаль и вширь. (Из старинной казачьей песни).
Ты, Кубань, ты, наша родина,
Вековой наш богатырь.
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.
(Из старинной казачьей песни).
Январь засыпал кубанскую степь сухим, колким снегом, сковал морозом болота и тихую речонку Карасун. Пушистый снег лёг на крепостной вал, завалил куренные строения, улицу. По утрам серебряный иней укутывал деревья, мучным налётом пудрил медные стволы пушек.
У войскового правления, как и год назад до ухода казаков в персидский поход, стоит казак–часовой. На ступеньках примостился дневальный казачок. От скуки нет–нет да и слепит снежок и, прищурившись, кинет в сидящих на ближнем дереве ворон. Те вспрянут, закружатся с криком и снова обсядут ветки.
У ворот крепости караульная будка и дежурный казак–пушкарь…
В войсковом правлении за деревянным барьером три урядника–писаря не столько пишут, сколько лениво болтают о новостях и слухах.
Только и изменений, что нет теперь уже в живых атамана Чепеги, а избранный на его место кошевой Головатый где‑то далеко на Хвалынском море воюет с кызылбашцами.
Казак у крепостных ворот прогуливается от пушки до будки и обратно. Иногда он останавливается, хлопает по дублёному кожуху озябшими руками, потом приседает, снова поднимается, топает ногами. Со стороны кажется, что казак вот-вот пустится отбивать гопака. Иногда со скуки караульный мурлычет себе под нос:
Ой, дидо, калина моя,
Ой, ладо, малина моя!
Издали, по мёрзлому насту, зацокали копыта. Казак торопливо выглянул в смотровую щель. По Дмитриевскому шляху намётом шёл верховой.
«С пакетом», — решил казак, поспешно распахивая ворота.
Из караулки выскочил урядник. Верховой офицер у крепости осадил коня, шагом подъехал к правлению. С порожек сбежал дневальный и, подхватив лошадь под уздцы, придержал стремя. Офицер долго притопывал одеревеневшими ногами, тёр щеки и только потом спросил у дневального:
— Где его превосходительство генерал–майор Котляревский?
— Я вас проведу, ваше благородие, — вызвался один из писарей.
Тимофей Терентьевич Котляревский собирался идти домой обедать, когда дверь без стука отворилась и вошёл молодой подтянутый поручик.
— Из Петербурга, от его императорского величества Павла Петровича вам пакет! — приложив ладонь к папахе, отчеканил офицер и, торопливо расстегнув шинель, вытащил засургученный конверт.
— Как от Павла Петровича? — поднявшись, недоуменно спросил войсковой писарь.
— Государыня Екатерина Алексеевна божьей волею скончалась шестого ноября.
— Царство ей небесное!
Котляревский широко перекрестился.
Дрожащей рукой надорвав край пакета, он вытащил небольшой лист и, шевеля губами, прочитал:
«Мы, божьей милостью, император и самодержец Российский, повелеваем вам, генерал–майору и войсковому писарю Черноморского казачьего войска прибыть в Санкт–Петербург и принять участие в предстоящих празднествах по случаю нашей монаршей коронации.
Павел.
Санкт–Петербург,
1796 год, в день 20 ноября».
Приехавший офицер заметил, как дрогнуло сухое, равнодушное лицо Котляревского. На мгновение офицеру почудилось, что в тусклых глазах генерал–майора мелькнула радость. Но когда он пристальнее взглянул на него, то не заметил никакого волнения. Лицо войскового писаря было спокойным, сосредоточенным. Задумчиво сложив письмо, Котляревский позвонил. Вбежал дневальный казак.
— Проведи господина поручика ко мне домой, — приказал Котляревский. — И немедленно вызови в правление всех старшин.
Когда поручик вышел, Котляревский, обхватив ладонями седеющие виски, долго сидел в раздумье. И кто знает, что за мысли были у него. Может, весть о смерти императрицы напомнила, что и у него жизнь движется к закату. Или, может, видел тот петербургский бал во дворце, на котором он, ещё молодой казачий старшина, лихо отплясывал мазурку с красавицей фрейлиной. Сама Екатерина обратила тогда на него внимание…
А может, уже видел властолюбивый войсковой писарь в своих руках желанную атаманскую булаву и выбирал наиболее верный путь к ней.
Котляревский вздохнул и снова перечитал письмо.
— Ишь ведь как пишет: прибыть! — вслух проговорил он и тут же кликнул старшего урядника-писаря.
— Посылай нарочных на кордоны, пусть оповестят полковников, чтоб безотлагательно прибыли в канцелярию.
Урядник, козырнув, направился к двери.
— Погоди!
Урядник вернулся.
— Заготовь письмо Антону Андреевичу, уведомь его, что я на той неделе по именному повелению государя–императора отбываю в Петербург, а заместо меня тут остаётся полковник Кордовский…
Вечером ещё один нарочный поскакал на Ачуевский рыбный завод с наказом срочно выслать в Екатеринодар шесть бочоночков лучшей зернистой икры да пять сотен отборной копчёной шемаи.
А дома войсковой писарь долго перебирал драгоценное оружие, добытое в боях с горцами: кинжалы в серебряных с чернью ножнах, шашки. Подумав, Котляревский приказал заботливо упаковать три драгоценные шашки–гурды и пять кинжалов.
Войсковой писарь генерал–майор Котляревский готовился мостить путь к атаманской булаве.
Но на сердце у него было беспокойно.
«У Антона в Петербурге много вельможных покровителей! Конечно, старый всё знает. Как бы впросак не попасть», — думал Котляревский.
Но накануне его отъезда, в самом конце февраля, на имя войскового писаря Котляревского пришло от полковника Чернышева письмо о смерти Головатого.
Зима на Каспии в этот год выдалась студёная. Соленые морские волны с рокочущим грохотом били в песчаные берега. Сырой ветер со свистом носился над островом, сметая песок и снег. Низко-низко ползли мрачные, тяжёлые тучи, из которых сыпался то мокрый снег, то надоедливый мелкий дождик.
Чернышев, принявший командование над казаками после Головатого, нарядил сотню казаков на Большую землю для заготовки дров. Но переправлять дрова на остров было невозможно: по мелководному проливу ходили огромные волны. Продукты в полках тоже были на исходе.
Теперь казаки умирали не только от жёлтой смерти, но и от простуды и истощения. Кладбище разрасталось, словно наступая на лагерь.
Боевые действия свернулись сами собой. Персы очистили побережье, а их флот ушёл к южным берегам Каспия.
Еще до наступления лютых холодов построили черноморцы на острове курени, а посреди, по старым запорожским обычаям, на майдане, у полковых кухонь под бревенчатым навесом место для литавр отвели. На майдан по удару довбыша в литавры сбегались казаки, чтоб выслушать команду полковников.
Медленно, однообразно час за часом, день за днём, текло время… И никто, вплоть до самого Чернышева, не знал, для какой надобности сидят казачьи полки на проклятом жёлтом острове.
Но вот наконец пришёл высочайший рескрипт об окончании военных действий. А в конце его дописано, чтоб стоять полкам до весны там, где их застанет этот указ.
•
Всю ночь, не переставая, кружился сырой снег, дул пронзительный ветер. Он завывал по–шакальи, нагонял тоску. Ветер забирался в курени, шарил по углам, задувал каганцы.
В Васюринском курене никто не спал. Васюринцы молча скучились у нар, где, разметавшись, бредил умирающий. Синие смертные тени уже легли на лицо казака, грудь тяжело, со свистом вдыхала воздух. И только чёрные глаза ещё горели ярким лихорадочным светом. Казак поминутно звал то отца, то ещё кого‑то. Дикун заботливо подсунул под голову больному торбу, положил руку ему на лоб. Кто‑то за спиной тихо сказал: