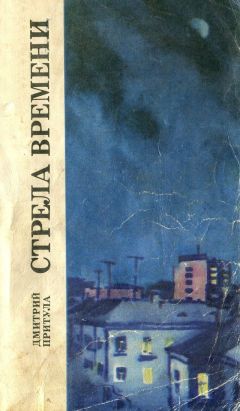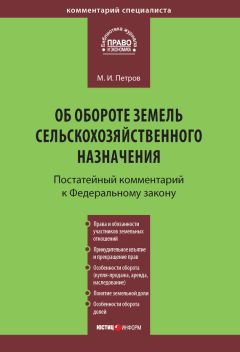А вот уже день следующий: тоже жаркий, но сухой, не душный, солнце раскалило воздух, а он дрожит от жары, неподвижный залив слепит глаза, пространства так прозрачны, что справа виден блеск Исаакия, до ближайшего форта пять километров, а видна всякая выбоина на нем — волшебное время, пространства скрадены жарой, все смещено, закручено, раскалено.
Лениво копошатся люди в неоглядном дворе — распахнуты гаражи, дети прячутся в тени, движения людей экономные, словно бы человек по этакой жаре собирается жить не день, но век, словно человек не в Фонареве живет, но в Ницце. Двор вспыхнул разноцветными флагами воскресной стирки, да вот он и скандальчик — кто-то пытается ковры выбивать, а пыль — куда ей деться — медленно оседает на влажное белье, так ведь воскресенье одно хоть для стирки, хоть для ковробоя, однако нет сил у людей на серьезную ссору, так, легкий шип — ну там ты гопник либо скобарь, да так все по мелочам, да и разойдутся себе. И трещат мотоциклы, и пионеры из «Архимедика» врубили на полную катушку «Не отрекаются, любя» — рано, рано созревают наши юные друзья.
А вот и Павлуша — он шкрябает поверхность лодки.
А теперь снова кликнуть помощников — сейчас натянем полотнища да и влепим их в лодку. И Павлуша руки смазал вазелином, очки защитные надел да резиновые перчатки и поднял руки над головой, и пальцами пошевелил для верности, и, пританцовывая у лодки, руками стал протопывать полотнища, да начинал с середины, да следил, чтоб не было пузырей, а если пузырь появлялся, то Павлуша давил его гаечным ключом, он время от времени останавливал танец, и, чтоб поправить перчатки, поднимал руки кверху, и снова пританцовывал у лодки.
Он был хорош, Павлуша, в это время — движения точные, нет ничего лишнего — знает человек свое дело.
А потом Павлуша принес из дому бидон с холодным пивом, и все, кто помогал ему в такой день, легли на землю чуть влажную в тени от кочегарки и пересохшими губами припадали поочередно к бидону — да есть ли что лучше, чем лежать в тени в жаркий день и пить холодное пиво, да чтоб рядом с тобой были друзья беззлобные.
Пошла себе гражданская жизнь Павлуши, сперва медленно, тягуче, а потом все резвее и резвее да и понеслась во весь дух. И месяц отсквозил, и другой, отсветили свое белые ночи, все раньше и раньше стало солнце клевать залив и вплывать в него на ночь — так покатилась Павлушина жизнь.
Он и отдохнул-то от армии пять дней, а потом поступил на мебельный комбинат. Но сейчас главное дело для него было в лодке. Потому, во-первых, что обещал сделать, потому еще, что стал Павлуша к лодке прикипать, и это была его первая лодка и опозориться он никак не хотел, ну и главное — лодку он мастерил для отца Любы, а Любу он вспоминал ежедневно и надеялся предстать перед нею в наилучшем виде.
Все вечера с семи и до одиннадцати Павлуша просиживал в лодке. То есть сначала, конечно, возле лодки, это когда днище до ватерлинии покрывал суриком на эпоксидке, а потом звал друзей, чтоб снова перевернуть лодку, и уж с тех пор сидел внутри. Ну, конечно, еще и потому сидел все вечера в лодке, что особенно-то ему и деваться было некуда.
Конечно, дом родной он и есть дом родной, но в нем стало тесновато. Одну комнату занимает брат Боря с Людой и Владиком, а в другой — большой, но проходной — вся остальная семья. С отцом-матерью, глядишь, сжился бы сносно и в одной комнате, а вот с братом Павлуша сумеет сжиться вряд ли.
Что попивает брат, это понятно, хотя, конечно, не каждый день, — шофер, жизнь собственная тоже дорога, — а вот в пятницу как разгонится, так до воскресного утра не просыхает. Да еще и гордость его заедает — пьет только на свои, недодавая Люде основательную часть зарплаты. Да каждый день приходит домой часов в девять, хотя работа кончается в шесть, а Люде в это время изводись — до нее слухи дошли, что муж захаживает к Вале, учетчице гаража, к тому ж она бывшая подруга Люды и при встрече задевает ее взглядами победными.
А Люду Павлуше жалко — уж как она нравилась ему пять лет назад — стройная была, веселая.
Пять лет всего отлетело, а где ж та юная Люда, расплылась, не стесняется при Павлуше ходить в драном халате, волосы нечесаные, вся она нахохлившаяся.
А Владик-то все понимает, вид у пацана испуганный, к бабкиному подолу как прибьется, да так и простоял бы до сна, а Люда, вся на взводе, шпыняет его, отгоняет от бабкиных колен, не портите ребенка, мама, уже доказали, какой вы есть воспитатель, на сына старшего, к примеру, полюбуйтесь.
И что в случае таком людей держит, разлетитесь вы, братцы, в разные стороны. Но, Павлуша, я уже старая стала, я себя чувствую так, будто мне пятьдесят лет, а куда я сбегу, да еще с ребенком, если у матери одна комната и в ней младший брат с женой, а Борьке жилья не будет в ближайшие годы. Да и его мне жалко, я его хоть чуть сдерживаю, а без меня совсем пропадет. Что он болтается, это как раз ничего, не мыло — не изотрется, но только б и жену законную не забывал.
Вот и скрывался Павлуша в своей лодке, и дело это ему нравилось, и радовало, что работа продвигается не так уж и медленно — потопчины соорудил для ходьбы вдоль бортов и три переборки поставил для усиления лодки, форпик (это для топливного бака на шестьдесят литров), заднюю стенку каюты и ахтерпик.
Тихий стоял августовский вечер, и было часов около одиннадцати. Белые ночи давненько уже обессилели и упорхнули отдыхать до следующего лета, небо стало сине-зеленым, тугим, высоким. В тишине иной раз посвистывала электричка, земля темна и дома темны, словно бы они вырезаны из фанеры, над домами узкой полосой лился слабый зеленый свет, звезды были мелки, а серп луны четок и ярок — можно работать и при лунном свете, но Павлуша для верности жег керосиновую лампу. Иногда глубоко в небе мерцали огни — то пролетал самолет. Пелена, сотканная из покоя, прохлады и вечерней неуловимой влаги, окутала землю, продлилась еще, вечер позднего лета, не покидай душу, покой предночный.
Сейчас собственная дальнейшая жизнь казалась Павлуше радостной загадкой, и разгадка не сулила, конечно, ни беды, ни тревоги.
Ему оставалось всего-то ввинтить два-три шурупа, чтоб на сегодня работу закончить, как вдруг услышал он осторожные шаги у лодки.
— Кто? — недовольно спросил Павлуша.
— Да я это.
— Люба? — удивился Павлуша и выглянул из лодки — Вот так штука. Случилось что? Отец послал посмотреть, как идут дела?
— Нет, я просто так. Я, может, давно не видела тебя. И, может, увидеть хочу.
Он скорехонько выпрыгнул из лодки и сел на ступеньку. Не во сне это — Люба перед ним. И видел-то всего раз, а скучал по ней, а сейчас обрадовался так, что сердце гулко заколотилось.
— Ты почему не появляешься? Ведь вон когда прибыл.
— Где ты живешь, не знаю. Мог бы узнать у своего отца, но как пойти к тебе домой? Вот когда лодку доделаю…
— Значит, не хотел увидеть.
— Очень хотел. Даже снилась.
— Даже снилась. Значит, не хотел увидеть.
— Очень хотел. Даже, говорю, и снилась.
— Даже и снилась. А что же на работе не нашел?
— А я не знаю, где ты работаешь.
— Ты не из детского сада, нет? Нашел бы. На рынке, в уцененных товарах.
— Значит, найду.
— И раньше мог, если б захотел.
— Да ты замерзла, поди, — сказал Павлуша.
На Любе было легкое платье. Он протянул руку и дотронулся до Любиного плеча. То есть он хотел согреть ее плечо горящей своей ладонью, и только, — погладить плечо он не осмелился бы, потому что как раз смелости да и сноровки в нем не было, но Люба-то поняла, что есть в нем и смелость и сноровка, и подалась вперед, к Павлуше, совсем приблизилась к нему, а Павлуша, вдруг растворившись в ее желании, припал к ее рту, и губы ее, во сне сухие, сейчас были влажны и горячи, и Люба как бы обмерла в напряжении, и дыхание ее участилось. Павлуши сейчас как бы и не было, сознание его померкло, слаще не было минуты в его жизни — размытое в лунном свете ее лицо, вздрагивающие ноздри, и кожа, невозможно гладкая, как бы пульсирующая кожа — все так. Но вдруг в сознание Павлуши стало проникать что-то такое уж знакомое, повседневное, что-то уж очень близкое, что вошло в жизнь, как атмосферный столб, солнечный свет либо осенний дождик, — то был винный запах, и Павлуша, ненавидящий спиртное, узнал, что это не легкий запах шампанского, но тяжелый запах водки либо заменителя типа «клопомор», и этот запах был так неожидан, что Павлуша отпрянул.
Люба потрясла головой, чтоб прийти в себя.
— Ты что? — удивилась она.
— А где это ты пила?
— В ресторане. А тебе что?
— Да ничего. А только противно.
— А может, я с подругой посидела да для храбрости и приняла. Ты же не появляешься. А может, я не одна была, а с телком вроде тебя.
— Я ж тебя не звал.
— Я домой шла и увидела свет. Но ты… ты, — нужного слова Люба сразу подобрать не могла и только уничтожающе махнула рукой.