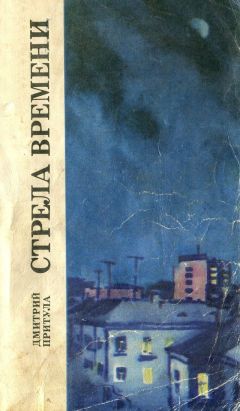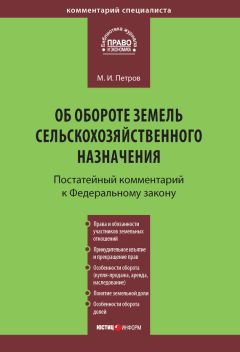Сереге два года. Сидит на песке, ножки вытянул, голову к плечу склонил. Тарабанит ладошкой по воде. Заливается после каждого шлепка. Тишина. Далеко слышны шлепки по воде. Залив неподвижен. И неподвижен белый пароход, идущий к старой крепости. Солнце белое, раскаленное. Тоже не движется. Легло прямо на белую панамку Сереги.
Лежат молчком, руки за голову, нехотя перекинутся словом, и снова молчок. Тишина — нельзя лишнее говорить. Небо выцвело от жары, ни тучки, и только вдали над белой крепостью легкое облачко плывет.
— Не сгорел бы, — кивает Аня на Серегу.
— Не сгорит, — нехотя отвечает Пашка. — Еще пяток минут. Солнца жалко.
И снова молчит.
— А большой парень вымахал.
— Да. В яслях всех больше. Это он в тебя.
— Хорош барабан. Спокойный. Другие вопят, как паровозная труба.
— Да, спокойный. Я его в тень отведу. Пора.
Аня возьмет парня на руки, а он будет смеяться и колотить мать ножками, и движения Ани будут медленными, как будто все во сне, и она пойдет осторожно, чтобы не уколоть ноги о мелкие камешки, черт побери, она такая легкая и загорелая, и над головой ее раскалывается солнце.
А потом снова лежать. И молчать. Так замереть. Только на бок иногда повернуться. Вдруг с места сорваться — уже потом, когда нельзя жару терпеть, — и потянуть Аню за собой, к заливу, и в воду ее поскорее. Но она со смехом вырвется и отбежит, и ее нужно будет догнать и вот тогда-то затолкать в воду.
И брызгами ее, брызгами, и захлебнуться смехом, и в лицо брызги, и песок со спины смыть, и так — пока руки у нас не отвалятся, пока лицо не устанет смеяться, пока не сведет под дыхалом.
Пошатываясь, побредут потом они на свое место и упадут на песок, и снова их будет жарить на этой сковородке.
И все медленно плывет к крепости белый пароход, и он сияет, как второе солнце, как луна, и названия его не разобрать. И песня долетает, только не расслышать ее, а надо бы. «Кто-то и мне машет рукой и улыбается».
Порядок. Это навсегда. Ничего не может измениться. Полный порядок. Только три года прожили. Еще бы раз двадцать по три. Так и будет. Никак иначе. Живи, радуйся, дуй в дуду.
Солнце сожгло лицо, слепит глаза залив, все не может скрыться пароход.
— Эх, пивка бы сейчас, — только постанывает Пашка. — А не догадались.
— Догадались. Вчера купила. Вон под тем камнем прохлаждается.
— Ну, Анюта! Ну, удивляешь!
А что ему остается, когда солнце раскалывается, когда сияет залив, когда пиво холодит глотку? Только удивляться. И также радоваться. И сиять от уха до уха.
Проснулся внезапно. Понял — еще ночь. Никогда так рано не просыпался. До семи далеко. За окном раскачивался фонарь. По потолку бродил его свет. Вдруг понял — что-то случилось.
— Паша! — услышал всхлип Ани.
Вскочил. Подбежал. Темно. Аня стонала. Задыхалась. Метнулся к выключателю.
Аня сидела, подложив под спину подушки.
— Аня! Что? — испугался Пашка.
Она громко вдыхала воздух. Выдохнуть не могла. Глаза метались. Пашка никогда не видел такого страха.
— Паша!
Он засуетился по комнате — да что же это? Ночь. Три часа. Зачем-то прошел в комнату Сереги — спит парень.
— Паша!
— Сейчас, Аня, сейчас, — успокаивал, — пройдет.
А руки дрожали. Не мог натянуть брюки, но натянул. И ботинки надел. Может, минут через десять будет рассвет, и все пройдет.
— Паша, умираю!
Вылетел из подъезда, на бегу прямо на майку натянул пиджак, понесся по Парковой и вдоль больничного забора и влетел в «Скорую помощь».
За столом дремал бритоголовый мужчина в белом халате. Врач «скорой помощи».
— Жена! — захлебнулся Пашка.
Врач сдавил ладонями лицо, согнал дремоту. Поднял на Пашку лицо. У него были черные подглазия.
— Что жена? — спросил хрипло.
— Как что?
— Ну, что с ней?
— Умирает, — выдохнул Пашка.
— Да вы успокойтесь. Где?
— Да рядом.
— Где?
— Березовая, десять.
— Едем! — И врач кивнул Пашке головой на дверь.
Взял зеленую сумку на молниях. Пашка успокоился.
Этот врач поможет. Никак иначе.
Вышли во двор. Сентябрь и ранняя осень, и льет холодный дождь. И где-то недалеко уже маячит зима.
— Простудитесь, — сказал врач. — Холодно.
— Да я ничего, — заспешил Пашка, — я что? Аня бы вот. Жена. И сразу. А никогда ничего. Всегда здоровая. Поскорее бы. Я ничего — здоровый.
— Что так срочно? Сердце?
— Нет вроде. Вроде другое. Не знаю. Мало что понимаю. Дышать не может. Ха-а — вдыхает, а выдохнуть не может.
— И часто бывает?
— Нет, первый раз.
Аня все так же сидела — подушки под спину — не могла раздышаться.
— Паша, — все-таки смогла обрадоваться его приходу, схватила его за руку, прижала к себе. Вроде бы его рука поможет.
— Сейчас, Аня, сейчас доктор все сделает, он все может, и все будет в полном порядке, и нормальный ход.
Врач «скорой помощи» осмотрел Аню, сделал укол. Через полчаса приехал снова. Еще сделал укол. Через час приступ прошел.
Все! Прошло. Это случайность. Никогда больше не повторится. Не будет ни страха, ни «скорой помощи» по ночам.
Стоял под козырьком подъезда, курил. Подзатянулась осень — ноябрь, а снега еще не было. Все время льют дожди. Первый вечер без Ани — в больницу ее положили, — а раньше-то никогда не расставались. Только когда появился Серега, но это все другое. Все бы ничего, да вот в доме пусто, и вот поговорить не с кем. Да, это невезуха. А ведь только три года прожили счастливо. Теперь вроде бы по-другому все пойдет, будут приступы то чаще, то реже — но совсем они никогда не пройдут. Так сказал участковый врач Королев. Но все равно выздоровеет Аня, быть иначе не может, обязательно выздоровеет. Есть же правда на земле. Ведь Пашка принял положенное. В блокаде ленинградской детство протрубил, с шестнадцати лет работал, в армии служил. Никак не скажешь про него, что он под солнцем юга грелся, под пальмами лежал. Ничего — все будет хорошо, и Аня выздоровеет. Это только временная невезуха.
Было холодно, но Пашка не уходил. Еще сильнее полил дождь. Чернели мокрые сараи. Вдруг за сараями дальше над заливом небо слабо вспыхнуло. И еще одна вспышка, уже сильнее, и повалил снег, и сараи сразу пропали в нем. Этот снег не растает. Он будет идти всю зиму.
День выписки. Полтора месяца — долгая отлучка. Отпросился с работы пораньше. Все поняли — дело такое, вали скорее. И повалил. Из Губина смотался в город, цветов на рынке прихватил.
Ехал на электричке. Мороз, три часа, пусто в вагоне. Задремал. А глаза откроешь — всего-то несколько минут и подремал — и вроде не узнаешь, где ты. И это вроде не ты, Пашка Снегирев, в электричке трясешься, а другой человек, и у этого другого в руках желтые цветки, и он рот раззявил на озерцо за окном. А мороз наваливается, и справа огромное красное солнце повисло и кровью залило гладкий лед под Фонаревом. На озере крутился мальчик, и выгибался он, и голову задирал.
И парни проволоклись по вагону. Один нес гитару, другой накручивал на палец завязку ушанки. Щелкнула щипцами контролер. Взглянула на Пашку, дальше пошла. Не спросила билет. Человек с цветочками — есть некоторое доверие. А у него рожа, верно, веселая и улыбка от уха до уха. А он и не собирается прятать улыбку в карман. Да и чего ради? Вышел в тамбур, распахнул дверь. В лицо полыхнуло морозом и ветром, и протяжно засвистела электричка.
Какая в нем легкость! И все тело будто бы звенит. И голова ясная. И никаких забот в ней.
Аня осторожно спустилась с крыльца. В серой пуховой шали, в темном пальто. Глаза впали. Лицо бледное. Пашке было стыдно за свою красную обветренную рожу. Сердце захлестнуло и зашлось, как тогда, когда впервые взял на руки Серегу. Подбежал к ней, выхватил из рук сетку, помог спуститься. Достал из кармана пальто цветы, протянул.
— Спасибо, Паша.
И они медленно пошли вдоль больничного забора. Аня улыбалась, но улыбка у нее была слабая, ее ослепило солнце. На Березовой уже встречались знакомые, они приветливо кивали Ане, а во дворе у колонки стояли соседки, и они поздравили Аню с выпиской.
А смотрите вы: как чисто в квартире, да занавески сменили, и скатерть новая, ай да мужчины, какие вы у меня молодцы, и Аня, не сняв пальто, устав от перехода от больницы до дома, села на стул и улыбалась, и вдруг улыбка задрожала и сморщилась — но-но, Анюта, голову-то подними и влажность не повышай, и смотри, какой обед заделали мы с Серегой. Суп сварили и мясо нажарили — тоже не лаптем щи хлебаем, тоже палец в рот не клади, по локоть отхапаем, — а ты сиди смирно и смотри, какой я есть в переднике.
Теперь знаем, как друг без друга. Здорова — и это же все в порядке. Следующий приступ когда еще будет. И думать о нем не смей, гори он синим огнем, прямо можно сказать — все отлично будет. Мы вместе, за одним столом, в одной комнате, и это же — ура!